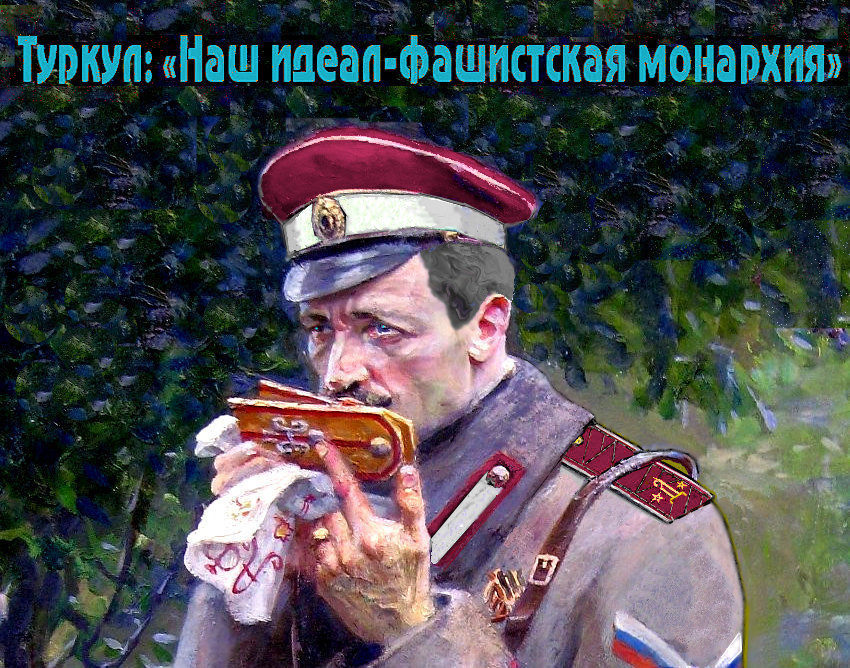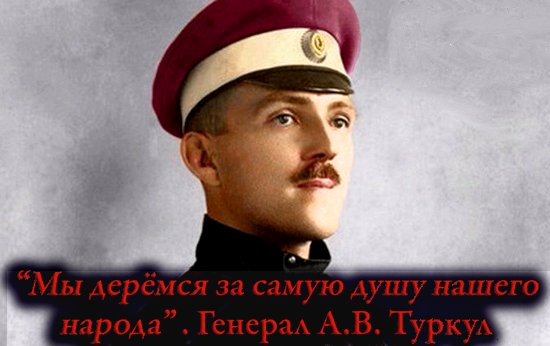Не забуду павших в битвах
В русск-совецкую войнуху –
Буду в песнях и молитвах
Славу петь их Белу духу…
Имена их в наши души на век
Будут врезаны живыми,
☦Русь их подвиги прославит,
☦Русь гордиться будет ими…
"Генерал Дроздовский не умер, он живёт в каждом из своих солдат; часть души и воли Дроздовского живёт в каждом из них". Генерал Туркул всей своей жизнью доказал эту истину: дух Дроздовского жил в личности Туркула. Будем верить, что и дух Туркула останется жить в сердцах и душах его почитателей, которые продолжат до победы непримиримую Туркуловскую Б☦лофашистскую борьбу за Россию".
От героев Белых времён,
не осталось порой имён.
Те юнцы, вступив с красной сволочью в бой,
стали просто землёй и травой.
И сегодня Белая доблесть их,
поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
он завещан Туркулом, засим,
мы в груди храним!
Погляди на моих бойцов,
Господь Бог помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
снова я своих юнкеров узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
поднимался как один,
шёл вперёд, под грохот мин!!
Нет в России семьи такой,
где не памятен Белый герой.
И глаза туркуловских ребят
с фотографий на нас глядят.
Этот взгляд словно высший суд,
для кадетов, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя,
ни солгать, ни обмануть,
ни с фашистского пути, свернуть!
Генерал Туркул не умер, он живёт в каждом ☦русском человеке, который любит своих Б☦лых героев ; часть души и воли Дроздовского-Туркула живёт в каждом из нас, настоящих ☦русских, живущих в оккупированой сто лет назад России и стремящихся к её освобождению от Жидовского Оккупационного Режима, желающих возрождения Православной Монархии.
Туркул Антон Васильевич (1892-1957) — генерал-майор, фашист.
ТУРКУЛ Антон Васильевич родился в г. Бендеры в дворянской семье.
В 1909 окончил Одесскую Ришельевскую гимназию. Действительную военную службу проходил в качестве унтер-офицера. Во время первой мировой войны за боевые отличия прозводится в офицеры. Награжден 5-ю орденами, в т. ч. орденом св. Георгия 4 степени и Георгиевским оружием. В чине штабс-капитана командовал ударным штурмовым батальоном, эмблемой которого было изображение черепа со скрещенными костями как знак презрения к смерти.
После большевистского переворота Туркул в составе добровольческого отряда полковника М. Г. Дроздовского совершил 1200-километровый поход от румынского г. Яссы до Новочеркасска. Гражданскую войну закончил начальником Дроздовской стрелковой дивизии в чине генерал-майора. Был награжден вновь учрежденным белым орденом св. Николая Чудотворца, который получили только 338 чел.
В эмиграции возглавлял объединение бывших дроздовцев, среди которых пользовался большим авторитетом. Был сторонником продолжения активной борьбы с большевизмом. В 1933 его люди готовили покушение на выдворенного из СССР Л. Троцкого-Бронштейна, не удавшееся из-за противодействия советской агентуры.
Желая «сплотить всех тех, кто в тяжелой эмигрантской ночи … не оторвался от своего отечества и народа, кто… сражался и стоял в боевом огне за Отечество, был белым воином России и таковым воином остался», Туркул 28 июня 1936 образовал на базе Дроздовского объединения военно-политическую организацию Русский Национальный союз участников войны (РНСУВ) с центром в Париже. В скором времени отделы РНСУВ возникли в Албании, Аргентине, Бельгии, Греции, Китае, Уругвае, Чехословакии, Югославии и др. странах. Организация издавала газету «Сигнал» и журналы «Военный журналист» и «Всегда за Россию» (последние слова также помещались и на нагрудном членском знаке туркуловцев).
Девиз РНСУВ был: «Бог — Нация — Социальная справедливость». В программных документах Союза говорилось: «Демократические измышления и подражания “европейским образцам” русских либералов есть жалкая пародия на державный ход русской истории, есть гримаса истории, заболевание нации.
Несомненно, возрождение Российской Империи возможно лишь через возрождение ее исторического, национального стержня — монархии. Если Российская Империя будет, то она будет только монархической. Но 20-летнее господство в СССР нерусской коммунистической власти не могло пройти бесследно. Осознание необходимости для Российской Империи монархии может произойти не на следующий день после свержения комвласти. Задача национальной диктатуры — помочь Российской нации встать на ее исторический путь. Эта задача нелегкая… Поэтому как Российская нация должна будет заслужить своего Императора, так и Российский Император — заслужить Россию».
Особо оговаривалась «ведущая роль Русского Народа»: «Высокий жребий», павший на долю Русского Народа (великороссы, украинцы —малоросы и белорусы), налагает на него и особую историческую ответственность». Поэтому он должен будет занимать «ответственное положение руководящего арбитра Империи».
В области финансово-экономической предусматривалось безусловное ограничение «самовластия финансового капитала».
«Единый правительственный банк может прекрасно выполнить экономическую функцию частных банков, без их безответственного политиканства. Это особенно важно для России.
Допустить свободу капиталистической деятельности после свержения комвласти — значит сознательно отдать страну на поток и разграбление международному хищническому капиталу. Но, конечно, совершенно обойтись без иностранного капитала обнищавшей России невозможно. Дело специального контроля установить, как может быть использован частный иностранный капитал» («Сигнал» [Париж], 1939, № 58).
Сам Туркул заявлял: «В основу нашего политического мышления мы взяли фашизм , показавший на деле свою жизнеспособность и победивший у себя на родине коммунизм. Но, конечно, доктрины эти мы преломляем в русской истории и применяем к русской жизни, к чаяниям и нуждам Российского народа… Наш идеал — фашисты всех стран и народов, в которых горит их национальная честь, в которых сильна их национальная правда и которые понимают и отдают должное и чужой чести, и чужой правде. Не использование и эксплуатацию, но взаимное уважение и добрососедский мир и союз — вот, что мы ждем и что мы видим от фашистской идеи» (Сигнал», 1938, № 32).
Считая, что необходим «взрыв действенности для освобождения России от кровавых лап иудо-марксизма», руководство РНСУВ в сент. 1937 вошло в Российский национальный фронт, объединивший ряд патриотических организаций эмиграции.
В апр. 1938 Туркул, капитан Ларионов и несколько правых русских эмигрантов решением прокоммунистического французского правительства М. Блюма были высланы как «нежелательные лица» в Германию.
Генерал Туркул проживал сначала в Берлине, а после подписания советско-германского пакта в авг. 1939 переехал в Рим.
Накануне второй мировой войны он писал: «Всякий удар по Коминтерну на территории СССР вызовет неизбежно взрыв противокоммунистических сил внутри страны. Нашим долгом будет присоединиться к этим силам. Мы будем добиваться тогда, чтобы где-нибудь, хоть на маленьком клочке русской земли, поднялось все же Русское трехцветное знамя» («Сигнал», 1939, № 48).
Поэтому Туркул со своими сторонниками присоединился к «Русской Освободительной Армии» .
В 1943 году он совершил поездку в Севастополь, где пытался отыскать могилы генерал-майора М. Г. Дроздовского и полковника В. Б. Туцевича в районе Малахова кургана, но в военных условиях 1943 года обнаружить могилы не удалось. После неудачного поиска Туркул вернулся в Германию.

1944 г.. Начальник управления формирования частей РОА и командир добровольческой бригады в Австрии, генерал-майор Антон Туркул обращается с напутсвенной речью к "роавцам".
В начале 1945 он сформировал добровольческую Казачью бригаду, планируя развернуть ее в отдельный корпус.
В мае 1945 года был арестован союзниками. До 1947 года находился в заключении, затем жил под Мюнхеном.
После войны сотрудничал в журналах «Доброволец» и «Часовой».
В августе 1950 года вернулся к политической деятельности и организовал съезд ветеранов РОА под Шляйхсхеймом, где был избран председателем .
В ночь с 19-го на 20-е августа 1957 года в Мюнхене в Баварии, после операции, генерал-майор Антон Васильевич Туркул скончался. 11 сентября тело покойного генерала отбыло в Париж, 14 сентября его похоронили в пригороде Парижа на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
…Таких похорон не знал Париж за все 35 лет. Под пение «Коль Славен» в собор внесли национальное знамя и знамя одного из дроздовских полков. Знамена склонились над гробом, когда хор пел «Вечная память». Текли слезы, слышались рыдания. Много было дроздовцев. Пришли все, даже оторвавшиеся от объединения. Собор не мог вместить всех молящихся. В последний раз у могилы дроздовское знамя легло на гроб и гроб опустили… Ушел от нас боец, борец за идею до последнего дня своей жизни… дроздовцы отмечают, что во всей белой зарубежной прессе траурными объявлениями, статьями и некрологами была отмечена смерть героя Белой и Освободительной борьбы…
— «Русская жизнь» от 28 сентября 1957 года.

Сидят справа налево — генералы — Штейфон, Кутепов, Витковский.
Стоят (за Кутеповым) генералы — Скоблин, Туркул. Болгария, 1921 год.

Офицеры Дроздовской дивизии. 1920 г. Галиполи.
Сидят в центре генерал Харжевский В.Г., генерал Туркул А.В.
http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/turkul.html
О, БОЖЕ ПРАВЫЙ, ИЗНЫВАЕТ…
Песня Дроздовского полка
О, Боже Правый, изнывает
Под гнетом Русь – спаси Её!
Тебя народ твой призывает,
Яви Ты чудо нам свое.
Припев:
Смелей, дроздовцы удалые!
Вперед без страху! С нами Бог! С нами Бог!
Поможет нам, как в дни былые
Чудесной силою помог. Да, сам Бог!
Завет священный выполняя,
Того, чей глас давно умолк,
Идет, Россию избавляя,
Вперед Дроздовский славный полк.
Господь послал нам испытанья
И бремя тяжкого труда,
Но, несмотря на все страданья,
Мы не сдадимся никогда.
Услышим снова приказанье:
«Вперед, Дроздовцы, в добрый путь!»
И боевое нам заданье –
Свободу Родине вернуть.
Значок малиновый взовьется
Пред фронтом нашего полка.
И сердце радостно забьется
В груди у каждого стрелка.
Вперёд поскачет Туркул славный,
За ним Конради и конвой.
Услышим вновь мы клич наш бранный,
Наш клич дроздовский боевой.
Судя по тексту, написано после гибели генерала Дроздовского, то есть не ранее января 1919 года.
Туркул, Антон Васильевич
Автор книги "Дроздовцы в огне".
«…Мы понимали, что дерёмся за Россию, что дерёмся за самую душу нашего народа… Мы уже тогда понимали, какими казнями, каким мучительством и душегубством обернётся окаянный коммунизм для нашего обманутого народа. Мы точно уже тогда предвидели Соловки и архангельские лагери для рабов, волжский голод, террор, разорение, колхозную каторгу, все бесчеловечные советские злодеяния над русским народом», — так писал в своей знаменитой книге «Дроздовцы в огне», ставшей одной из основополагающих книг Белого Дела, генерал Антон Васильевич Туркул. Свои воспоминания посвятил он «грядущим белым бойцам»: «В образах их предшественников, павших белых солдат, души которых продолжают жить в их душах, да почерпнут они тот порыв и ту жертвенность, что помогут им довести до конца дело борьбы за освобождение России». Мечта генерала начинает понемногу осуществляться в наши дни, и для иных русских мальчиков книга его становится настольной, становится путеводителем и ориентиром, следуя которому они выбирают свой путь – путь борьбы за русское Отечество.
Антон Туркул родился в Тираспольском уезде Херсонской губернии в семье служащего, окончил Ришельевскую гимназию Одессы, а в возрасте 18 лет добровольно вступил вольноопределяющимся в Житомирский пехотный полк. Будущий генерал дважды пытался поступить в военное училище – Тифлисское и Одесское, но оба раза безрезультатно. Спустя три года службы в чине унтер-офицера он вышел в отставку, но… через полтора года грянула Мировая война, и унтер-офицер Туркул отправился на фронт. Сражался юноша отчаянно, и, заслужив два солдатских Георгия уже в первый год войны, был направлен на ускоренные курсы прапорщиков. Русская армия, лишившись убитыми большой части своих младших офицеров, шедших в атаки во главе своих солдат и погибавших первыми, срочно нуждалась в восполнении кадров.
В 1915 году Антон Васильевич вернулся на фронт офицером. В 1916-м – он уже поручик. Он был трижды ранен, награждён орденом Святого Георгия и золотым Георгиевским оружием за храбрость, в 1917 году произведён в штабс-капитаны… После революции отважный офицер не соблазнился её «вольными ветрами». Он вступил в один из ударных батальонов – частей, ставших прообразом Добровольческой армии. В «ударники», «смертники» шли самые преданные Отечеству сражатели, на них летом 1917 года и держался разлагаемый революционной пропагандой фронт.
Осенью с девятью «ударниками» Туркул добрался до родного Тирасполя. «Тирасполь, полный солдат и матросов, тоже митинговал, но никто из нас не снимал погон, и ходили мы по улицам с ручными гранатами, обычно четверо впереди, четверо позади, а я посредине, — вспоминал Антон Васильевич. — Товарищи нас явно боялись, а когда попытались напасть, мы отбили нападение ручными гранатами. Гранаты нам пришлось бросать около самой женской гимназии, и сотни детских лиц смотрели на этот нечаянный бой, прижавшись к стеклам окон. Такой была наша тираспольская Вандея».
Эта великолепная десятка уже тогда приняла решение пробираться на Дон. В это время Туркул узнал, что в Яссах для похода на Дон, к Корнилову, формирует отряд полковник Дроздовский. Так судьба свела его с выдающимся вождём, истинном рыцарем Долга и Чести, Михаилом Гордеевичем Дроздовским. Под его началом Антон Васильевич и его соратники совершили беспримерные переход Яссы-Дон, завершившийся освобождением от большевиков Ростова-на-Дону. В Страстную субботу 22 апреля 1918 года был освобождён Ростов, 25 апреля — Новочеркасск. За три недели, за время пребывания отряда Дроздовского в Новочеркасске, в его отряде было сыграно более 50 свадеб….
Во Втором Кубанском походе Туркул командовал ротой офицерского полка 3-й пехотной дивизии Дроздовского. Поход этот стоил Михаилу Гордеевичу жизни. Антон же Васильевич был тяжело ранен в боях под Кореновской и вернулся в строй только в начале 1919 года, став сперва командиром 1-го батальона 2-го офицерского генерала Дроздовского полка, а затем командиром 1-го Дроздовского полка Дроздовской дивизии. Под его водительством Дроздовцы летом 19-го года освобождали Харьков…
«Один из первых добровольцев отряда полковника Дроздовского, отряда, развернувшегося после смерти генерала ДРОЗДОВСКОГО в полк его имени, а затем в Дроздовскую дивизию, стал капитан, полковник и, наконец, генерал-майор Туркул символом доблести, героизма и того особого порыва, который сделал его имя в то время легендарным, а успехи дроздовских частей — "туркуловскими" успехами, — писал о нём боевой соратник, Николай Галай. — Этому выдвижению рядового офицера белого офицерского полка на должность командира ударной дивизии Белой армии обязан был 27-летний генерал исключительно личным качествам: беззаветной доблести, смелости в ПРИНЯТИИ решений, стремительности в их проведении, кипучей инициативе, творческому прозрению новых тактических форм гражданской войны, блестящей боевой интуиции и особенно — редко встречающемуся качеству — гражданскому мужеству, выражавшемуся в отсутствии боязни действовать в случае нужды и вопреки запоздавшим или неудачным приказам».
В генералы Антон Васильевич был произведён уже П.Н. Врангелем в апреле 1920 года за успешную десантную операцию Перекоп — Хорлы. Ему было 28 лет.
— Да, я ухожу с Дроздовским. В поход, — сказал в феврале 1918 года вернувшийся недавно с фронта молодой капитан матери.
— Какой поход? Войны больше нет. Все развалилось, все кончено…
— Это хуже войны. Дело идет о существовании России.
— Николай в Ялте, больной… Может быть, смертельно. Ты едва оправился от ран. Я почти не видела вас… За что опять отнимают вас обоих? У меня же сил больше нет. Я мать.
«Она зарыдала глухо, — вспоминал Туркул. — Я поцеловал ее седую голову с таким строгим и милым пробором. Я говорил ей как умел, что если не противопоставить человеческой честной силы бесчеловечным и бесчестным насильникам, все равно они разгромят жизнь. Или Россия и человеческая жизнь в России будут взяты нами с боя, или Россия и вся жизнь в ней будут замучены большевиками.
Мать слушала меня, отвернувшись к окну. Когда она обернулась, ее глаза были сухи и светились печально. Мать привыкла к разлукам».
Трое сыновей этой несчастной женщины были замучены большевиками… Одного подняли на штыки революционные матросы, которые ворвались в госпиталь, где он лечился. Второго, взятого в плен, сожгли живьем за обнаруженные в его кармане малиновые погоны Дроздовской дивизии. Судьба третьего точно неизвестна. Антон Васильевич выжил. «Всем матерям, отдавшим своих сыновей огню, хотел бы я сказать, что их сыновья принесли в огонь святыню духа, что во всей чистоте юности легли они за Россию. Их жертву видит Бог», — напишет он позднее.
В самом конце борьбы на Юге России, 6 августа 1920 года, в боях в Северной Таврии он принял командование Дроздовской стрелковой дивизией. Именно в это время проявилось с особой силой его полководческое дарование. Следуя суворовским заветам о быстроте, натиске, внезапности удара, он умел и совершать быстрые манёвры, и концентрировано наносить удар по противнику всеми силами свой дивизии. Действия дивизии генерала Туркула впоследствии изучались в советских военных училищах и академиях. Историк Виктор Бортневский отмечает: «По свидетельству очевидцев, для Туркула была характерна постоянная бодрость, не покидавшая его даже в самые тяжёлые минуты, высокое боевое мастерство, отменная храбрость». В конце октября дивизия Туркула сыграла решающую роль в контрнаступлении стратегического резерва Русской армии под Юшунью, обеспечив успешную эвакуацию армии и беженцев и понеся при этом наименьшие потери.
«Цепи красных, сшибаясь, накатывая друг на друга, отхлынули под нашей атакой, когда мы, б☦логвардейцы, в нашем последнем бою, как и в первом, винтовки на ремне, с погасшими папиросами в зубах, молча шли во весь рост на пулеметы, — вспоминал Туркул. — Дроздовский полк в последней атаке под Перекопом опрокинул красных, взял до полутора тысяч пленных. На фронте, кроме жестоко потрепанной бригады Кубанской дивизии, не было конницы, чтобы поддержать атаку. Под перекрестным огнем, расстреливаемый со всех сторон, 1-й Дроздовский полк должен был отойти. Около семисот убитых и раненых было вынесено из огня. В тот же день был получен приказ об общей эвакуации, и Дроздовская дивизия, страшно поредевшая, но твердая, двинулась в Севастополь.
Конец. Это был конец, не только Б☦лых. Это был конец России. Б☦лые были отбором российской нации и стали жертвой за Россию. Борьба окончилась нашим распятием. "Господи, Господи, за что Ты оставил меня?" — может быть, молилась тогда с нами в смертной тьме вся распятая РОССИЯ».
«Дроздовцы в огне», воспоминания генерала Туркула, несомненно, одно из самых пронзительных, патетических произведений о Белой Борьбе. Это гимн всем Добровольцам и мученикам за Россию. «…Русский мальчуган пошёл в огонь за всех, — писал генерал. — Он чуял, что у нас правда и честь, что с нами русская святыня. Вся будущая Россия пришла к нам, потому что именно они, добровольцы – эти школьники, гимназисты, кадеты, реалисты должны были стать творящей Россией, следующей за нами. Вся будущая Россия защищалась под нашими знамёнами; она поняла, что советские насильники готовят ей смертельный удар. Бедняки-офицеры, романтические штабс-капитаны и поручики, и эти мальчики-добровольцы, хотел бы я знать, каких таких «помещиков и фабрикантов» они защищали? Они защищали Россию, свободного человека в России и человеческое русское будущее. Потому-то честная русская юность – всё русское будущее – вся была с нами». «Дроздовцы в огне» — великий реквием, который при всей трагичности описываемых событий, внушает бодрость и веру, которой дышало сердце самого Антона Васильевича. «Мы верили в то, что рано или поздно русский народ встанет на борьбу с большевизмом. Тогда мы могли в это только верить – ныне мы это твёрдо знаем», — утверждал он уже в эмиграции. Епископ Нафанаил писал о Туркуле: «Многие из вождей, из тех, кто поражали и пленяли шедших за ними людей своей доблестью и неустрашимостью в огне и грохоте битв, не выдержали испытания изгнаннической жизни; среди серости, нужды, безысходности беженских путей морально опустились и увяли, сдались жизни.
Но не таков был Антон Васильевич. Он и в изгнании сохранил духовную бодрость и высокую доблесть, не сдаваясь жизни. Добрый семьянин, он ничем не пятнал образа высокого, нравственно чистого русского человека; и он и его супруга для всех русских изгнанников служили примером добрых хранителей чистого семейного очага, примером, особенно нужным и драгоценным среди искушений нашего беспочвенного и смутного беженского существования.
Глубоко верующий человек, он крепко прильнул к Церкви, стяжав себе дружеское уважение и почитание со стороны таких столпов Церкви, как Первоиерарх Русского Зарубежья митрополит Анастасий и глава Германской епархии архиепископ Александр.
Стойкость в вере нужна для всего. В частности, без нее не может быть настоящего, крепкого, бескомпромиссного, постоянного, ни от чего непоколебимого противостояния сатанинской силе коммунизма. Этой стойкостью в вере и основанной на ней принципиальной непримиримостью к сатанинскому злу, поработившему нашу Родину, в полной мере обладал покойный Антон Васильевич Туркул.
Поэтому до конца своих дней сохранил Антон Васильевич ничем не запятнанную чистоту совести, и потому все русские люди зарубежья могли в последние годы возлагать так много надежд на него, видя в нем ничем незапятнанного, многожды и разнообразно проверенного в горнилах различных испытаний вождя, руководителя и учителя».
«Для русских военных служилых людей Россия была не только нагромождением земель и народов, одной шестой суши и прочее, но была для них отечеством духа. Россия была такой необычайной и прекрасной совокупностью духа, духовным строем, таким явлением русского гения в его величии, чести и правде, что для русских военных людей она была Россией-Святыней», — писал генерал Туркул. Для него, жившего борьбой за Отечество, потерявшего в этой борьбе самых дорогих людей, невозможна была пассивность, отстранённость… Для него война продолжалась всегда. Этим обусловлены были и ошибочные шаги, горячностью страдающего сердца продиктованные. Так, Антону Васильевичу после смерти Врангеля и Кутепова показалось, что РОВС недостаточно активен, и он создал стоящий на монархической платформе Русский Национальный Союз Участников Войны (РНСУВ) с лозунгом: "Наш идеал — Православное Царство-Империя". Одним из руководителей «оппозиции» молодых генералов наряду с Туркулом был Скоблин. Из этого понятно, что раскольнические действия «из лучших побуждений» умело подстрекались большевиками через своих агентов-провокаторов. Само собой, известие о том, что Скоблин — предатель и соучастник похищения председателя РОВСа генерала Миллера, стало для Антона Васильевича настоящим шоком.
РНСУВ просуществовал в итоге недолго. Самому Туркулу также не сужден был долгий век. Он скончался в 65 лет в Мюнхене и был похоронен подле памятника «Генералу Дроздовскому и Дроздовцам» на Сент-Женевьев де Буа. По свидетельству газеты «Русская жизнь», «таких похорон не знал Париж за все 35 лет. Под пение «Коль Славен» в собор внесли национальное знамя и знамя одного из дроздовских полков. Знамена склонились над гробом, когда хор пел «Вечная память». Текли слезы, слышались рыдания. Много было дроздовцев. Пришли все, даже оторвавшиеся от объединения. Собор не мог вместить всех молящихся. В последний раз у могилы дроздовское знамя легло на гроб и гроб опустили… Ушел от нас боец, борец за идею до последнего дня своей жизни… дроздовцы отмечают, что во всей белой зарубежной прессе траурными объявлениями, статьями и некрологами была отмечена смерть героя Белой и Освободительной борьбы…»
«Единственный из белых генералов А.В.Туркул был связующим звеном трех поколений эмиграции, не делившим ее на старых, новых и новейших, а стремившимся объединить всех в единую российскую антикоммунистическую эмиграцию, — писал Николай Галай. — Его преждевременная смерть оставляет незаполненным это место. Однако, в своих воспоминаниях "Дроздовцы в огне" генерал Туркул, говоря о смерти Дроздовского, отмечал: "Солдаты не умирают; Дроздовский не умер, он живет в каждом из своих солдат; пока жив хотя бы один из них — часть души и воли Дроздовского живет в каждом из нас". Генерал Туркул всей своей жизнью доказал эту истину: дух Дроздовского жил в личности Туркула. Будем верить, что дух Туркула останется жить в сердцах и душах его соратников и друзей из старой, новой и новейшей эмиграций, которые продолжат до победы непримиримую "туркуловскую" борьбу за Россию.
Тем не менее, потеря остается невозместимой, так как ушел не только доблестный генерал и крупный российский патриот, но ушел Человек, имевший право называться так с большой буквы: верующий христианин, верный и надежный командир и товарищ, сердечный и вливавший бодрость в сердца других, снисходительный к слабостям людей и готовый всегда придти на помощь».
Антон Васильевич Туркул не был святым. В лице Туркула мы видим один из ярких примеров трагической судьбы Русского офицера, расколотой революцией. И каковы бы ни были суждения об иных его деяниях и взглядах, из нашей истории, из нашей словесности, из нашей, если возможно употребить здесь это слово, духовности, воспитующей грядущие поколения русских людей, уже не уйдёт «библия» Б☦лого Движения, книга «Дроздовцы в огне»… Генерал Туркул до последнего верил, что «когда-нибудь все поймут, что между прежней «старорежимной» Россией, павшей в смуте, и большевистской тьмой, сместившей в России всё божеское и человеческое, прошла видением необычайного света, в огне и в крови, Белая Россия капитанов Ивановых, Россия правды и справедливости». Будем же верить в это и мы! И, веря, приближать это время!
Е. Фёдорова
"Сибиряки, чалдоны, крепкий народ. Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи (староверы) ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские". — Вот это В☦ра была!
А.В. Туркул. Наша заря.
…Я вбегаю по ступенькам деревянной лестницы к нам в юнкерскую, на верхний этаж нашего тираспольского дома, смотрю: а через спинку кресла перекинут френч моего брата Николая с белым офицерским Георгием. Николай, сибирский стрелок, приехал с фронта раньше меня, и я не знал ни о его третьем ранении, ни об ордене святого Георгия. В третий раз Николай был ранен тяжело, в грудь.
Я приехал с фронта тоже после третьего ранения: на большой войне я был ранен в руку, в ногу и в плечо. Мы были рады нечаянной и недолгой встрече: врачи настояли на отъезде брата в Ялту — простреленная грудь грозила чахоткой. Это было в конце 1916 года. Вскоре я снова уехал на фронт. И вот на фронте застиг меня 1917 год.
Я представляю себя самого тогдашнего, штабс-капитана 75-го пехотного Севастопольского полка, молодого офицера, который был потрясен национальным бедствием революции, как и тысячи других среди военной русской молодежи.
Моя жизнь и судьба неотделимы от судьбы русской армии, захваченной национальной катастрофой, и в том, что я буду рассказывать, хотел бы я только восстановить те армейские дела, в которых я имел честь участвовать, и тех армейских людей, с кем я имел честь стоять в огне заодно.
В разгар 1917 года, когда замитинговал и наш полк, я стал в нашей дивизии формировать ударный батальон.
Надо сказать, что почти с начала войны у меня служил ординарцем ефрейтор Курицын, любопытный солдат. Ему было лет под сорок. Рыжеватый, с нафабренными усами, он был горький пьяница и веселый человек. Звали его Иваном Филимоновичем. До войны он был кровельщиком, во Владимирской губернии у него осталась жена и четверо ребят. Курицын очень привязался ко мне.
В 1917 году я отправил его в отпуск и в армейском развале забыл о моем Санчо Панса. И вот внезапно он явился ко мне, но в каком виде: оборванец, в ветоши, в синяках и без сапог.
— Ты что же, — сказал я ему, — ну не образина ли ты, братец. Обмундирование и то пропил…
— Никак нет, не пропил. Меня товарищи раздели.
И Курицын поведал мне, как он приехал из отпуска в наш полк, а меня в полку нет, и комитетчики злобятся, что я отбираю ударников. Иван Филимонович не пожелал оставаться в развалившемся полку и подал докладную по команде, чтобы его из полка отправили ко мне.
Тут и начались испытания ефрейтора Курицына. Комитетчики всячески его оскорбляли, «холуем» бранили, что «ряжку в денщиках нажрал», доходило и до затрещин, а потом на митинге проголосовали отобрать от него все обмундирование, сапоги, казенные подштанники, даже портянки, а выдать самую ветошь. Потому-то Иван Филимонович и явился ко мне чуть ли не нагишом.
Он стоит передо мной, а мне вспоминаются Карпаты, ночь, снег. В ночной атаке на Карпатах я был ранен в ногу. Атаку отбили, наши отошли. Я остался лежать в глубоком снегу, не мог подняться, кость нестерпимо мозжила; я горел и глотал снег. Помню сухие содрогания пулеметного огня, и как надо мной в морозной мгле роились звезды.
Иван Филимонович тогда подобрался ко мне и поволок меня под мышки по снегу. Я невольно застонал. Он прошептал мне сердито, чтобы я молчал. Так он вынес меня из огня. Сам он был ранен в грудь; на груди шинель его была черной от крови и клубилась паром.
Я вспоминаю его на Карпатах, так же как и другого ефрейтора, Горячего, рядового Розума и рядового Засунько и тысячи тысяч других русских солдат, верных присяге и долгу, спящих теперь вповалку в братских могилах до трубы архангела.
И думаю, что они, наши светлоглазые русские орлы, послушные во всем, даже в самой смерти, верящие офицеру и верные ему всей душой, они и создали героическую молодежь, для которой солдат всегда был младшим братом, — героическую молодежь, три года отбивавшую от советского рабства Россию. Мы бились за русский народ, за его свободу и душу, чтобы он, обманутый, не стал советским рабом.
Возвратившегося Ивана Филимоновича я поблагодарил за верную службу, а его жене во владимирское село послал сколько мог денег. Самому Курицыну дать деньги поостерегся: все равно пропьет.
Это было после развала 12-й армии, когда в 3-ю Особую дивизию был переброшен мой ударный батальон. Там Курицын и напросился доставить ко мне домой трех моих коней. Кони действительно были хороши, и заплатил я за них хорошо, но их надо было везти в Тирасполь, чуть ли не через всю Россию в самую разруху.
Жалел коней и мой вестовой сибиряк Павел Дроздов. Дроздов был солдат заботливый. В глинистых окопах, полных воды, если у меня промокнут ноги, обязательно найдутся у Павла шерстяные носки на перемену, всегда есть чистое белье а горячие котелки из кухонь он мне носил под самым огнем. Сибиряк был человек суровый, любитель порядка и спорщик по домашним делам.
Павел Дроздов очень желал получить Георгиевский крест. Под Станиславом он напросился со мной в бой. Я дал команду к атаке, поднялся, за мной — адъютант ударного батальона, а все лежат. Смотрю, поднимается один мой Павел.
Так мы трое и начали атаку: командир, адъютант и вестовой. За нами поднялись все. Павел был легко ранен в плечо. В атаке он заслужил свой солдатский крест. После удачного боя нам пришлось переходить вброд какую-то речонку, и вот мой новый герой окликает меня по-домашнему: «Ваше благородие, как вы ноги промочили, носки другие подмените!» Любопытно, что после этого боя все солдаты весьма уважительно стали величать Дроздова по имени-отчеству.
Сибиряки, чалдоны, крепкий народ. Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские. Из окопов другой норовит бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает — и не следит. Сибирский же стрелок бьет редко, да метко. Он всегда норовит стрелять по прицелу. Про сибиряков недаром говорят, что они белке в глаз метят, чтобы шкурки не испортить. Губительную меткость их огня и боевую выдержку отмечают, как известно, многие военные писатели, и среди них генерал Людендорф.
А своими победами сибирские бородачи перед другими солдатами были горды, что называется, до черта. Едва зайдет при них солдатский разговор, что такому-то полку дали георгиевские петлицы или что там-то снова прославилась гвардия, как сибиряк уже щурится презрительно и говорит с равнодушием: «Да брось ты про георгиевские петлицы… Гвардея тоже… Что гвардея, когда мы, сибирячки, с ашалонов Аршаву атаковали».
Вот мой чалдон Дроздов с Курицыным погрузили коней в вагон и поехали. А куда поехали — неизвестно ни им, ни мне.
Я с девятью офицерами-ударниками добрался до Тирасполя только к самой зиме, среди тяжелого развала, тягостного и бессмысленного гама митингов, кишащих солдат. В Тирасполе моих вестовых не было, и я подумал, что они либо загнали лошадей, либо их самих куда-нибудь загнали с конями.
Все эти девять офицеров жили у меня в доме. Мы всюду ходили вместе: даже бриться и за папиросами. Уже тогда мы решили пробраться на Дон, о котором доносились глухие слухи. Тирасполь, полный солдат и матросов, тоже митинговал, но никто из нас не снимал погон, и ходили мы по улицам с ручными гранатами, обычно четверо впереди, четверо позади, а я посредине.
Товарищи нас явно боялись, а когда попытались напасть, мы отбили нападение ручными гранатами. Гранаты нам пришлось бросать около самой женской гимназии, и сотни детских лиц смотрели на этот нечаянный бой, прижавшись к стеклам окон. Такой была наша тираспольская Вандея.
Вскоре после того, на балу в реальном училище, ко мне подошел какой-то штатский господин. Это был капитан Кавтарадзе, грузин, расстрелянный позже грузинами же. Он предложил мне ехать в отряд полковника Дроздовского, формируемый в Яссах, чтобы идти на Дон к генералу Корнилову.
О Дроздовском ни я, ни девять моих офицеров совершенно ничего не знали. Я поручил одному из ударников, поручику Турбину, съездить и узнать, существует ли такой отряд. Через три дня поручик Турбин вернулся и доложил, что отряд Дроздовского действительно есть. Тогда мы все решили ехать к Дроздовскому, чтобы пробиваться к Корнилову отрядом, а не одиночками, что было куда тяжелее.
Помню солнечное зимнее утро. Мать сидела в гостиной у окна. Ее седая голова была как бы очерчена прохладным серебристым светом. Я вошел и молча сел на поручень ее кресла. Мать заметила, что мне не по себе.
— Ты хочешь что-то сказать?
— Да, я ухожу с Дроздовским. В поход.
— Какой поход? Войны больше нет. Все развалилось, все кончено…
— Это хуже войны. Дело идет о существовании России.
Мать склонила седую голову;
— Николай в Ялте, больной… Может быть, смертельно. Ты едва оправился от ран. Я почти не видела вас… За что опять отнимают вас обоих? У меня же сил больше нет. Я мать.
Она зарыдала глухо. Я поцеловал ее седую голову с таким строгим и милым пробором. Я говорил ей как умел, что если не противопоставить человеческой честной силы бесчеловечным и бесчестным насильникам, все равно они разгромят жизнь. Или Россия и человеческая жизнь в России будут взяты нами с боя, или Россия и вся жизнь в ней будут замучены большевиками.
Мать слушала меня, отвернувшись к окну. Когда она обернулась, ее глаза были сухи и светились печально. Мать привыкла к разлукам. Мой отъезд был решен.
Провинциальный Тирасполь мирно светился от снега. Стояла крепкая зима. Однажды, в начале декабря, горничная вызвала меня вниз:
— Ваши пришли, — весело и загадочно сказала она.
Я вышел в прихожую, а там в облаке морозного пара, оттаптывая снег, стоят Курицын и Дроздов, оба в ладно пригнанных шинелях. Оруженосцы не только доставили моих коней, но и откормили их до того, что верховые кони стали похожи на ломовых битюгов. Чудаки, везли коней без одной выводки целых пять недель.
По дороге мои проводники завалили сеном, натасканным из интендантских складов, весь товарный вагон, а под овес заняли еще и соседнюю площадку. Сказать ли, Курицын и Дроздов изловчились раздобыть по дороге больше ста тюков прессованного сена. Они привезли каких-то чудовищных зверей для Гаргантюа, которые вскоре и были проданы. Перестарались.
Наша встреча была самой душевной. Оба они хорошо у меня отдохнули. Потом я помог Дроздову выехать в Сибирь, куда он торопился, а Курицыну сказал:
— Поезжай и ты, брат, в деревню.
— А вы, ваше благородие, куда собираетесь?
— Я к генералу Корнилову.
— А мне что же делать в деревне?
— Как — что? Вот чудак. У тебя жена, дети — семья.
— Сами знаете, к семейственному я не пригож. А на те деньги, что вы им, спасибо, послали, жена год будет жить, да еще радоваться, что меня нет. Не поеду я, ваше благородие, в деревню. Я уж с вами останусь. Как допрежде был, так и теперь.
Я наградил его чем мог, сказал, что он еще может остаться у нас присмотреть за конями, но потом должен возвращаться к себе домой.
С девятью офицерами я выехал в отряд Дроздовского, а Курицын, можно сказать, меня обманул: во Владимирскую губернию он так и не вернулся, а остался в Тирасполе, в нашем доме.
В Румынии было тогда полно русских войск, но сверху никто не отдавал приказа о создании добровольческих отрядов. Больше того, русское командование растерялось.
Бригады добровольцев формировались в Кишиневе, в Яссах и под Яссами, на станции Скинтея. Третья бригада полковника Дроздовского, куда мы прибыли, стояла на этой станции. Помню, как уже после одной командировки в Киев, когда я ехал назад в Скинтею, на бульваре в Кишиневе встретилась мне блестящая коляска бессарабского помещика. В коляске я узнал моего старого приятеля, однополчанина по большой войне, поручика Мелентия Димитраша. Кряжистый, с рыжеватыми усами, спортсмен британской складки, с дерзко улыбающимися зеленоватыми глазами, он был известен как блестящий, бесстрашный офицер, Димитраш был добровольцем в Китае во время восстания «Большого кулака», на японской и на великой войне.
Мы расцеловались. Указывая на трехцветный наугольник на моем рукаве, Димитраш спросил:
— А это что такое?
— Это бригада русских добровольцев.
Димитраш небрежно расспросил о бригаде, о Дроздовском и пригласил к себе обедать.
В самый разгар обеда Димитраш куда-то исчез. Вдруг торжественно растворились двери, и хозяин появился в полной походной форме, с наугольником из трехцветных ленточек на рукаве. Слегка смущенный, он поглаживал рыжеватые усы, его зеленые глаза смеялись.
— Ну вот, — сказал Димитраш, — я бросаю все это и тоже ухожу. Да здравствует поход. За Россию!
На другое утро мы уже ехали с ним в Скинтею.
В феврале румыны начали вести переговоры о сепаратном мире. Тогда-то растерявшимся русским командованием был отдан предательский приказ о расформировании русских добровольческих частей. Приказ этот отдал генерал Кельчев-ский, перешедший позже к большевикам.
Бригады в Кишиневе и в Яссах приказу подчинились и были распущены. В нашей третьей, Скинтейской, бригаде полковник Дроздовский созвал командный состав, прочел приказ о расформировании и сказал:
— А мы все-таки пойдем…
Ни одного мнения не было подано против. Как и Корнилов, мы восстали против революции. Мы не только не подчинились приказу, но спешно выступили со станции Скинтея в Яссы. Сосредоточились мы у Ясс на вокзале Сокола. Там к нам подошла одна офицерская рота из бригады, расформированной в Яссах. Рота тоже не подчинилась приказу. Мы стали военными бунтовщиками.
Дроздовский уехал в штаб румынского фронта выяснять обстановку, а офицеры и добровольцы, подходившие к нам из города, стали передавать, что наш отряд со всех сторон окружают румынские войска. Мы немедленно отправили сторожевые охранения и выставили пулеметы.
У вокзала были брошены русские пушки. Мы расставили нашу артиллерию, с ней и эти пушки. Наши жерла были направлены на парламент, заседавший тогда в Ясском дворце. Было решено не допускать разоружения. Я помню бессонную ночь, помню ночное собрание старших начальников. Мы ждали приезда Дроздовского, мы решили пробиваться с боем, если румыны не согласятся нас пропустить.
Утром румыны прислали нового офицера с требованием разоружиться. Мы отказались и предупредили, что при первой же попытке разоружить нас силой огонь всей нашей артиллерии будет открыт по городу и парламенту.
А Дроздовского все не было. У многих не только росла тревога за него, но закрадывались и сомнения. В десять часов утра погожего ясного дня, когда мы со всех сторон были окружены румынами и зловеще сверкало на солнце их и наше оружие, вдруг показался автомобиль. В нем Дроздовский. Он как будто бы махал белым платком. Машина остановилась. Толпой, кто только был свободен, мы кинулись к командиру.
— Господа, — радостно сказал Дроздовский, махая листком бумаги, — пропуск у меня в руках — дорога свободна. После обеда мы выступаем.
От нашего молодого горячего «ура» задрожали вокзальные стекла. Дроздовский не мог к нам вернуться вчера — его не пропустили. Тогда он снова поехал в штаб румынского фронта и там раздобыл нам пропуск.
Мы стали лихорадочно грузиться в эшелоны. 26 февраля 1918 года бригада русских добровольцев полковника Михаила Гордеевича Дроздовского начала свой поход; я шел фельдфебелем второй офицерской роты. В Кишинев мы пришли эшелонами. Там подождали, пока подойдут последние эшелоны, и вот — поход начался.
Было нас около тысячи бойцов. Никто не знал, что впереди. Знали одно: идем к Корнилову. Впереди — сотни верст похода, реки, бескрайние степи, половодье, весенняя грязь и враги со всех сторон, свои же, русские враги. Впереди — потемневшая от смуты, клокочущая страна, а кругом растерянность, трусость, шкурничество и слухи о разгуле красных, о падении Дона, о поголовном истреблении на Дону Добровольческой армии. Мы были совершенно одни, и все-таки мы шли.
Нас вел Дроздовский. Теперь мы узнали, что он окончил Военную академию, участвовал в японской войне добровольцем в 34-м Сибирском полку, был ранен, на большой войне командовал 60-м Замостским пехотным полком, а когда был начальником штаба 64-й пехотной дивизии, сам повел в Карпатах в атаку два полка и снова был ранен.
Дроздовский был выразителем нашего вдохновения, сосредоточием наших мыслей, сошедшихся в одну мысль о воскресении России, наших воль, слитых в одну волю борьбы за Россию и русской победы. Между нами не было политических разнотолков. Мы все одинаково понимали, что большевики — не политика, а беспощадное истребление самих основ России, истребление в России Бога, человека и его свободы.
Я вижу тонкое, гордое лицо Михаила Гордеевича, смуглое от загара, обсохшее. Вижу, как стекла его пенсне отблескивают дрожащими снопами света. В бою или в походе он наберет, бывало, полную фуражку черешен, а то семечек и всегда что-то грызет. Или наклонится с коня, сорвет колос, разотрет в руках, ест зерна.
В наш поход Дроздовский вышел с одним вещевым мешком, и нам было приказано не брать с собой никаких чемоданов.
Припоминаю один ненастный серый день на походе, когда несло мартовский снег. Дымилась темная мокрая степь, дымились люди и кони, колыхавшиеся в тумане, как привидения. Уныло чавкала под ногами холодная грязь. Я и капитан Андриевский устроились на подводе под моей буркой. Снег стал мельче, колючее; сильно похолодало и бурка затвердела. Поднялась пурга.
Из тумана на нашу подводу нашло высокое привидение. Это был Дроздовский верхом, в своей легкой солдатской ши-нелишке, побелевший от снега. Его окутанный паром конь чихал. Видно было, как устал Дроздовский, как он прозяб, но для примера он все же оставался в седле.
Мы предложили ему немного обогреться у нас под буркой. Неожиданно Дроздовский согласился. Сено под нами было теплое и сухое. Мы быстро нагребли ему сена, он лег между нами, вздохнул и закрыл глаза. Мы накрыли командира буркой и еще стали своими спинами согревать его от злющего ветра. Под мерное качание подводы Дроздовский заснул. Глухо носилась пурга. Мы с Андриевским побелели от снега, нас заметало, но мы лежали не шелохнувшись.
Дроздовский спал совершенно тихо, его дыхания, как у ребенка, не было слышно. Он отдыхал. Так он проспал часа четыре, а когда пробудился, был очень смущен, что заснул на подводе.
У обритых, всегда плотно сжатых губ Дроздовского была горькая складка. Что-то влекущее и роковое было в нем. Глубокая сила воли была в его глуховатом голосе, во всех его сдержанных, как бы затаенных движениях. Точно бы исходил от него неяркий и горячий свет.
Свой известный дневник Дроздовский начал на походе, и записи его дневника — заветы Дроздовского — сегодня живы так же, как и в те дни, когда мы по степям шли на Дон.
«Только смелость и твердая воля творят большие дела. Только непреклонное решение дает успех и победу. Будем же и впредь, в грядущей борьбе, смело ставить себе высокие цели, стремиться к достижению их с железным упорством, предпочитая славную гибель позорному отказу от борьбы».
«Голос малодушия страшен, как яд».
«Нам остались только дерзость и решимость».
«Россия погибла, наступило время ига. Неизвестно, на сколько времени. Это иго горше татарского».
«Пока царствуют комиссары, нет и не может быть России, и только когда рухнет большевизм, мы можем начать новую жизнь, возродить свое отечество. Это символ нашей веры».
«Через гибель большевизма к возрождению России. Вот наш единственный путь, и с него мы не свернем».
«Я весь в борьбе. И пусть война без конца, но война до победы. И мне кажется, что вдали я вижу слабое мерцание солнечных лучей. А сейчас я обрекающий и обреченный».
Обрекающий и обреченный. Он таким и был. Он как будто бы переступил незримую черту, отделяющую жизнь от смерти. За эту черту повел он и нас, и, если мы пошли за ним, никакие страдания, никакие жертвы не могли нас остановить. Именно в этом путь Дроздовского: «через гибель большевизма к возрождению России, единственный путь, наш символ веры».
Белая идея не раскрыта до конца и теперь. Белая идея есть само дело, действие, самая борьба с неминуемыми жертвами и подвигами. Белая идея есть преображение, выковка сильных людей в самой борьбе, утверждение России и ее жизни в борьбе, в неутихаемом порыве воль, в непрекращаемом действии. Мы шли за Дроздовским, понимая тогда все это совершенно одинаково.
На походе мы узнали еще о другом отряде добровольцев. Один полковник собрал его в Измаиле и выступил вслед за нами. В селе Каменный Брод этот отряд нас догнал. Измаильский полковник был невысокого роста, с пристальными светло-серыми глазами. Он заметно приволакивал ногу. Мы узнали, что его фамилия Жебрак-Русакевич.
Полковник Жебрак был ранен в колено еще на японской войне, когда был офицером в одном из сибирских полков. Тогда же он получил орден святого Георгия. На большую войну он пошел добровольцем; был он военным судьей, но подал рапорт о зачислении в действующую армию и получил полк Балтийской дивизии, стоящей тогда по гирлам Дуная. Он принес нам знамя Балтийской дивизии, морской Андреевский флаг с синим крестом. Андреевский флаг стал полковым знаменем нашего стрелкового офицерского полка.
На походе мы встречали эшелоны германцев и австрийцев, тянувшиеся к югу. Под Каховкой германцы предложили нам свою помощь. Отличный германский взвод с пулеметом на носилках уже подошел к нам по глубокому песку. Германских пулеметчиков мы поблагодарили, но сказали, что огня открывать не надо. На паромах мы перевалили через Южный Буг, а Днепр перешли у Каховки, с которой нам суждено бы-о встретиться снова, в самом конце нашей борьбы. С короткого боя мы взяли Акимовку, где уничтожили отряд матросов-коммунистов, ехавших эшелоном в Крым. С боя заняли Росаново и захватили Мелитополь.
В Мелитополе мы мобилизовали сапожников и портных, на складах военно-промышленного комитета нашли запасы защитного сукна, отлично оделись и обулись. Там же были сформированы две команды — мотоциклистов-пулеметчиков и мотоциклистов-разведчиков.
Стояла сильная весна. Все купалось в радостном свете. Зелено-дымная степь звенела, дышала. Это был благословенный гул жизни, как бы подтверждавший, что и мы все идем для одного того, чтобы утвердить в России Благоденствие.
И вот после двухмесячного похода, после тысячи двухсот верст пути появились мы со всей нашей артиллерией и обозами под Ростовом, точно из самой зеленой степи чудесно выросло наше воинство.
Команде мотоциклистов-разведчиков дано было задание выяснить силы большевиков в Ростове и установить, где они сосредоточены. Разведчик-мотоциклист юнкер Анатолий Прицкер превосходно выполнил боевое задание: по его докладу была выдвинута куда следует артиллерия, дано направление движению войск, и полковник Войналович начал наступать на Ростов.
В страстную субботу, 22 апреля 1918 года, вечером, началась наша атака Ростова. Мы заняли вокзал и привокзальные улицы. На вокзале, где от взрывов гремело железо, лопались стекла и ржали лошади, был убит пулей на перроне доблестный начальник штаба нашего отряда генерального штаба полковник Бой-налович. Он первый со 2-м конным полком атаковал вокзал. За ним подошла наша вторая офицерская рота. Большевики толпами потекли на Батайск и Нахичевань.
Ночь была безветренная, теплая, прекрасная — воистину святая ночь. Одна полурота осталась на вокзале, а с другой я дошел по ночным улицам до ростовского кафедрального собора. В темноте сухо рассыпалась редкая ружейная стрельба. На улицах встречались горожане-богомольцы, шедшие к заутрене. С полуротой я подошел к собору; он смутно пылал изнутри огнями. Выслав вперед разведку, я с несколькими офицерами вошел в собор.
Нас обдало теплотой огней и дыхания, живой теплотой огромной толпы молящихся. Все лица были освещены снизу, таинственно и чисто, свечами. Впереди качались, сияя, серебряные хоругви: крестный ход только что вернулся. С амвона архиерей в белых ризах возгласил:
— Христос воскресе!
Молящиеся невнятно и дружно выдохнули:
— Воистину…
Мы были так рады, что вместо боя застали в Ростове светлую заутреню, что начали осторожно пробираться вперед,
чтобы похристосоваться с владыкой. А на нас сквозь огни свечей смотрели темные глаза, округленные от изумления, даже от ужаса. С недоверием смотрели на наши офицерские погоны, на наши гимнастерки. Никто не знал, кто мы. Нас стали расспрашивать шепотом, торопливо. Мы сказали, что белые, что в Ростове Дроздовский. Темные глаза точно бы потеплели, нам поверили, с нами начали христосоваться.
Я вышел из собора на паперть. Какая ночь, святая .тишина! Но вот загремел, сотрясая воздух, пушечный гром. Со стороны Батайска стреляет бронепоезд красных. Каким странным показался мне в эту ночь гул пушечного огня, находящий шум снарядов.
От собора я с полуротой вернулся на вокзал. По улице, над которой гремел пушечный огонь, шли от заутрени люди. Они несли горящие свечи, заслоняя их рукой от дуновения воздуха. Легкими огоньками освещало внимательные глаза.
На вокзале, куда мы пришли, в зале первого класса теперь тоже теплились церковные свечи, и от их огней все стало смутно и нежно. Ростовцы пришли нас поздравлять на вокзал. Здесь были пожилые люди и седые дамы, были девушки в белых платьях, только что от заутрени, дети, молодежь. Нам нанесли в узелках куличей и пасок. На некоторых куличах горели тоненькие церковные свечи. Обдавая весенним свежим воздухом, с нами христосовались. Все говорили тихо. В мерцании огней все это было как сон. Тут же, на вокзале, к нам записывались добровольцы, и рота наша росла с каждой минутой.
В два часа ночи на вокзал приехал Дроздовский. Его обступили, с ним христосовались. Его сухощавую фигуру среди легких огней и тонкое лицо в отблескивающем пенсне я тоже помню, как во сне. И как во сне, необычайном и нежном, подошла к нему маленькая девочка. Она как бы сквозила светом в своем белом праздничном платье. На худеньких ручках она подала Дроздовскому узелок, кажется с куличом, и внезапно, легким детским голосом, замирающим в тишине, стала говорить нашему командиру стихи. Я видел, как дрогнуло пенсне Дроздовского, как он побледнел. Он был растроган. Он поднял ребенка на руки, целуя маленькие ручки.
Уже светало, когда вокзал опустел от горожан. А на самом рассвете большевики подтянули подкрепления из Новочеркасска. В те мгновения боя, когда мы несли тяжелые потери, к Дроздовскому прискакали немецкие кавалеристы. Это были офицеры германского уланского полка, на рассвете подошедшего к Ростову. Германцы предложили свою помощь. Дроздовский поблагодарил их, но помощь принять отказался.
Мы стали отходить на армянское село Мокрый Чалтырь. На поле у дороги мы встретили германских улан. Все они были на буланых конях, в сером, и каски в серых чехлах, у всех желтые сапоги. Их полк стоял в колоннах. Ветер трепетал в уланских значках.
Когда мы с нашими ранеными проходили мимо, раздались короткие команды, слегка поволновались кони, перелязгнуло, сверкнуло оружие, и германский уланский полк отдал русским добровольцам воинскую честь. Тогда мы поняли, что война с Германией окончена.
В Мокром Чалтыре в первый день Пасхи командир нашего офицерского полка генерал Семенов передал полк новому командиру полковнику Жебраку-Русакевичу. В этот же день до нас дошли слухи, что в Новочеркасске идет бой между красными и восставшими казаками. Полк выступил в Новочеркасск.
Когда мы внезапно показались под городом, он уже почти был оставлен восставшими донцами, державшимися только на окраинах. Красные наступали. На наступающих двинулась наша кавалерия, бронеавтомобиль и конно-горная батарея. Нас не ждали ни донцы, ни красные. Наша атака обратила красных в отчаянное бегство.
На третий день Пасхи, 25 апреля 1918 года, Новочеркасск был освобожден.
 А.В. Туркул. Пурга.
А.В. Туркул. Пурга.
После похорон нашего командира я вернулся в полк, стоявший в Каменноугольном районе. Я получил в командование первый офицерский батальон. После смерти Дроздовского у всех в полку было чувство подавленной горечи. Ни песен, ни смеха. Как будто все постарели. Начинался жестокий девятнадцатый год.
В глухой зимний день я работал один до позднего времени в штабе батальона. Вдруг слышу знакомый голос:
— Ваше высокоблагородие, разрешите войти?
Я и глазам не поверил: входит, по уставу, ефрейтор Курицын; подтянут, рыжие волосы расчесаны, усы нафабрены, но, кажется, слегка пьян.
Ефрейтор Курицын, мой вестовой с большой войны, остался, как я уже рассказывал, в Тирасполе у моей матери. Теперь мой «верный Ричарда», Иван Филимонович, приехал служить со мной «как допрежде на Карпатах» и покидать меня больше не желал. Он привез мне вести о матушке и все Домашние новости.
Из переданных писем я узнал о конце моего брата Николая. Нечто лермонтовское, романтическое, было для меня всегда в фигуре и в жизни моего младшего брата. Сибирский стрелок, бесстрашный офицер, георгиевский кавалер, он в 1917 году лечился в Ялте после ранения в грудь. Это было его третье ранение в большой войне.
В Ялте — узнал я из писем — во время восстания против большевиков Николай командовал восставшими татарами. Он был ранен на улице, у гостиницы «Россия». Женщина, которую мой брат любил, подобрала его там и укрыла на своей даче. Она отвезла его в госпиталь, стала ходить за ним сиделкой.
Тогда-то пришел в Ялту крейсер «Алмаз» с матросами. В Ялте начались окаянные убийства офицеров. Матросская чернь ворвалась в тот лазарет, где лежал брат. Толпа глумилась над ранеными, их пристреливали на койках. Николай и четверо офицеров его палаты, все тяжело раненные, забаррикадировались и открыли ответный огонь из револьверов.
Чернь изрешетила палату обстрелом. Все защитники были убиты. «Великая бескровная» ворвалась. В дыму, в крови озверевшие матросы бросились на сестер и на сиделок, бывших в палате. Чернь надругалась и над той, которую любил мой брат.
За этими письмами я думал о моей матери и о невесте Николая. В дни глубокой горечи и раздумий я понял, что все матери и невесты замучены в России и что подняли мы борьбу не за одну свободную русскую жизнь, но и за самого человека.
В те горькие дни не раз утешал меня, вольно или невольно, мой ефрейтор Курицын, который принес с собою воздух покинутого дома, воспоминания о матери, о брате. До глубокой ночи толковали мы с ним о наших далеких, о наших человеческих временах. Курицын, впрочем, вскоре по старой привычке начал, что называется, зашибать, и иногда до того, что просто не стоял на ногах.
За такие солдатские грехи мне приходилось отправлять почтенного Ивана Филимоновича под винтовку. Он стоит под винтовкой, а сам горько плачет. Конечно, я с Иваном Филимоновичем довольно скоро мирился.
У Курицына была непоколебимая солдатская вера в мою счастливую звезду. Если я шел в бой, то, по его разумению, непременно будет победа. Позже, когда мы заняли Бахмут, остановились мы там на пивоваренном заводе. Я был в бою, а Курицын без помехи глушил на заводе пиво. К Бахмуту прорвались большевики. В городе заметались, вот-вот поднимется паника, Курицын же продолжал спокойно осушать бочонок; кони у него расседланы и вещи не собраны.
Бахмутцы кинулись к нему с расспросами.
— Будьте благонадежны, — покручивая рыжие усы, успокаивал всех этот новый Бахус. — Уж я вам готорю, что ничего не случится, когда Сам в бой поехал.
Иван Филимонович, как и солдаты, называл меня Самим.
Действительно, большевиков мы благополучно расшибли, и к часу ночи я вернулся на завод. Там все было освещено. В зале нас ждала толпа гостей и обильный праздничный ужин. В толпе штатских я заметил Курицына. Он был нагружен окончательно.
— Ты, братец, пьян, — сказал я, проходя.
— Никак нет, господин полковник.
Он пошатнулся, но встал по уставу. От его рыжих волос выпитое пиво, казалось, валило паром.
— Да ты посмотри на себя в зеркало…
Мне пришлось пообещать отправить Ивана Филимоновича утром под винтовку часа на три, но за него вступились все — хозяева и гости. Они-то и рассказали, как один Курицын, окруженный пивными бочками, своим невозмутимым спокойствием остановил бахмутскую панику.
Ефрейтор Курицын как обещался верно служить, так и служил до конца. В Каменноугольном районе Ивана Филимоновича свалил сыпняк. Ослабевшее сердце не выдержало, и верный ефрейтор отдал Богу солдатскую душу.
Всю тяжкую зиму девятнадцатого года мы бились в Каменноугольном районе за каждый клочок земли. Это было какое-то топтание в крови. Мы точно таяли с каждым днем. Нашим верным союзником было солнце. В солнечное время мы могли маневрировать. Одним маневрированием мы побеждали красных. Метели и вьюги, пурга, всегда были нашими врагами. Нет ничего глуше, ничего безнадежнее русской метели, когда кажется, что исчезает все, весь мир, жизнь, и смыкается кругом воющая тьма.
Как часто смыкалась вокруг нас русская тьма. Железный ветер скрежетал в голом поле. Колючий снег бил в лицо. Снег заносил сугробами наших мертвецов. Мы были одни, и нас было немного в студеной тьме. Вся Россия как будто бы исчезла в метели, онемела, и отзывалась она нам волчьим воем красных, их залпами, одним страшным гулом пустоты. Нет ничего глуше, ничего безнадежнее русской вьюги.
В зимних боях мы измотались. Потери доходили до того, что роты с двухсот штыков докатывались до двадцати пяти. Бывало и так, что наши измотанные взводы по семь человек отбивали в потемках целые толпы красных. Все ожесточели. Все знали, что в плен нас не берут, что нам нет пощады. В плену нас расстреливали поголовно. Если мы не успевали унести раненых, они пристреливали себя сами.
26 января 1919 года в самой мгле метели 2-я рота моего батальона поручика Мелентия Димитраша сбилась с дороги и оказалась у красных в тылу. С тяжелыми потерями люди пробились назад. Димитраша с ними не было.
— Где командир роты? — спросил я.
Лица иззябших людей, как и шинели, были покрыты инеем. Среди них были раненые. От стужи кровь почернела, затянулась льдом. Все были окутаны морозным паром. Они угрюмо молчали.
— Где командир роты?
Фельдфебель штабс-капитан Лебедев выступил вперед и хмуро сказал:
— Он не захотел уходить.
Тогда стали застуженными голосами рассказывать, как Димитраш был ранен, тяжело, кажется в живот. Красные наседали; рота была окружена. Димитраша подняли. Первой пыталась нести его доброволица Букеева, дочь офицера, сражавшаяся в наших рядах. В пурге выли красные, они стреляли со всех сторон по сбившейся роте. Тогда Димитраш приказал его оставить, приказал опустить его у пулемета. Над ним столпились, не уходили.
— Исполнять мои приказания! — крикнул Димитраш и стукнул ладонью по мерзлой земле: — Я остаюсь. Я буду прикрывать отступление. Извольте отходить.
Рота заворчала, люди не подчинялись. Зеленоватые глаза Димитраша разгорелись:
— Исполнять мои приказания!
Тогда мало-помалу рота потянулась в снеговой туман. За ними лязгал пулемет Димитраша. Цепи, полуслепые от снега, пробивались в пурге. Все дальше, все глуше такал и лязгал пулемет Димитраша.
Цепь пробилась. Я помню, как принесли доброволицу Букееву, суровую, строгую девушку, нашу соратницу, В бою она отморозила себе обе ноги. Позже она застрелилась в Крыму, в немецкой колонии Молочная.
Туда, где оставался с пулеметом раненый Димитраш, была послана резервная рота. Пулемет Димитраша уже смолк. Все молчало в темном поле. Среди тел, покрытых инеем и заледеневшей кровью, мы едва отыскали Димитраша. Он был исколот штыками, истерзан. Я узнал его тело только по обледеневшим рыжеватым усам и подбородку. Верхняя часть головы до челюсти была сорвана. Мы так и не нашли ее в темном поле, где курилась метель.
Вместе с поручиком Димитрашем смертью храбрых пали в том бою капитан Китари, капитан Бажанов, поручик Вербицкий и другие, тридцать один человек. Капитан Китари, старший офицер 2-й роты, чернявый, малорослый, с усами, запущенными книзу, мешковатый, даже небрежный с виду, — забота обо всех и обо всем, такой хлопотун, что мы его прозвали «квочкой», — был настоящей российской пехотой.
Или поручик Вербицкий, командир 3-го взвода, с ясными глазами, со свежим румянцем, офицер замечательного хладнокровия и самообладания. Это он в бою под Кореневкой, когда на его взвод обрушилась конница Сорокина, с божественным спокойствием отставил команду для стрельбы, чтобы дать два наряда не в очередь поручику Петрову, Медведю, поторопившемуся с ружейным приемом. Вербицкий любил говорить, что солдатская служба продолжается всегда и везде, что она бессрочна. Так он уже провидел тогда нашу теперешнюю солдатскую судьбу.
Малишич, немного увалень, Бажанов, как и все тридцать один, как хромоногий Жебрак, как все другие семьдесят семь Белой Глины и все семидежды семьдесят семь, павшие смертью храбрых на полях чести: их жизнь не отошла волной на тихом отливе, не иссякла.
Они не умерли, они убиты. Это иное. В самой полноте жизни и деятельности, во всей полноте человеческого дыхания, они были как бы сорваны, не досказав слова, не докончив живого движения. В смерти в бою смерти нет.
Вербицкий, обещавший так много, или мой брат, как и тысячи и десятки тысяч всех их, не доведших до конца живого движения, не досказавших живого слова, живой мысли, все они, честно павшие, доблестные, ради кого и о ком я только и рассказываю, все они в нас еще живы.
Именно в этом тайна воинского братства, отдавания крови, жизни за других. Они знали, что каждый из боевых собратьев всегда встанет им на смену, что всегда они будут живы, неиссякаемы в живых. И никто из нас, бессрочных солдат, никогда не должен забывать, что они, наши честно павшие, наши доблестные, повелевают всей нашей жизнью и теперь и навсегда.
Перекличка наших мертвецов с каждым днем становилась все длиннее. Уже в Каменноугольном районе, в пурге, поглощавшей все, не только наше далекое довоенное прошлое, но и недавняя стоянка в Новочеркасске казались нам видением иного мира, которому как будто никогда не вернуться. Но мы понимали, что деремся за Россию, что деремся за саму душу нашего народа и что драться надо. Мы уже тогда понимали, какими казнями, каким мучительством и душегубством обернется окаянный коммунизм для нашего обманутого народа. Мы точно уже тогда предвидели Соловки и архангельские лагеря для рабов, волжский голод, террор, разорение, Колхозную каторгу, все бесчеловечные советские злодеяния над русским народом. Пусть он сам еще шел против нас за большевистским отребьем, но мы дрались за его душу и за его свободу.
И верили, как верим и теперь, что русский народ еще gоймет все, так же как поняли мы, и пойдет тогда с нами против советчины. Эта вера и была всегда тем «мерцанием солнечных лучей», о котором писал в своем походном дневнике генерал Дроздовский.
А бои все ширились, разрастались. Гражданская война все жесточела.