«Новый год – не торжество, ✠МЫ✠ встречаем Рождество!»
✠МЫ-ИКС✠, от всей души поздравляем всех Бѣлых казаков и всех Бѣлофашистов с радостным праздником Рождества Христова!
Будем всегда держаться своей Святоотеческой В☦ры, которая есть начало и необходимое условие всего нашего ☦Русского национального бытия!
Желаем ✠Вам✠ и ✠Вашим✠ близким мира, радости, благополучия, добра, любви и преизобильной благодати Божией.
✠ИМПЕРСКИЙ КАЗАЧИЙ СОЮЗ✠


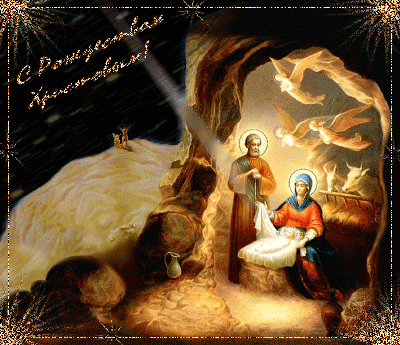 7 января мы празднуем величайший из двунадесятых праздников – Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
7 января мы празднуем величайший из двунадесятых праздников – Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Ангел Господень явился обрученному мужу Пресвятой Девы во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою. Родившееся в ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». С этого времени Иосиф не только был хранителем девства Богоматери, но и тайны воплощения Бога от Девы, предреченной пророком Исаией (см. Лк. 2, 1-21).
В это время вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Kаждому надо было записаться в своем отечественном городе; поэтому Иосиф с Пресвятой Девой Марией, происходя из дома и рода Давидова, пошли из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов Вифлеем, где в связи с переписью было многочисленное стечение народа. Пресвятой Деве Марии наступило время родить, но не оказалось удобного места в доме. Она удалилась в вертеп, в который обычно загоняли домашний скот, и там родила Сына, Сама спеленала Его и положила в ясли.
Пастухам, которые стерегли стадо в поле, явился Ангел Господень, и ослепил Божественный свет. На их испуг Ангел сказал им: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая приготовлена для всего народа: теперь родился вам в городе Давидовом Спаситель, именно Христос Господь».
* * *
Рождество в Царской России.

 В конце года, 25-го декабря, праздновалось Рождество. Как известно, праздник этот был тогда тесно связан с украшением елки для детей. Если теперь ёлка называется новогодней, то тогда её называли рождественской. Чтобы сделать маленьким детям сюрприз, родители украшали ёлку в отсутствие детей, уложив их спать. Подарки клались под ёлку. Пробуждение вызывало восторг. Тогда было широко распространено поздравление родителей в стихах. Если дети изучали какой-нибудь иностранный язык, то читали стишок на этом языке. После поздравления вручались подарки.
В конце года, 25-го декабря, праздновалось Рождество. Как известно, праздник этот был тогда тесно связан с украшением елки для детей. Если теперь ёлка называется новогодней, то тогда её называли рождественской. Чтобы сделать маленьким детям сюрприз, родители украшали ёлку в отсутствие детей, уложив их спать. Подарки клались под ёлку. Пробуждение вызывало восторг. Тогда было широко распространено поздравление родителей в стихах. Если дети изучали какой-нибудь иностранный язык, то читали стишок на этом языке. После поздравления вручались подарки.





 В эмиграции Иван Шмелев вспоминал: «Вот, о Рождестве мы заговорили… А не видавшие прежней России и понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось куполом-исполином в ночи морозной – Храм Христа Спасителя.Рождество-то Христово – его праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в её пределах ни одного из врагов её. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его… – разве о нём расскажешь! Где теперь это знамение русской народной силы?!. Ну, почереду, будет и о нем словечко. Рождество в Москве чувствовалось задолго, – весёлой, деловой сутолокой. Только заговелись в Филипповки, 14 ноября, к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут, – «гусиные поезда», в Германию: раньше было, до ледников-вагонов, живым грузом. Не поверите, – сотни поездов! Шёл гусь через Москву, – с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары… Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни: оттуда пути другие. И утка, и кура, и индюшка, и тетёрка… глухарь и рябчик, бекон-грудинка, и… – чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло, «царское», с привкусом на-чуть-чуть грецкого ореха, – знатоки это очень понимают, – не хуже прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий и сладковатый, жирный, остро-душистый «русско-швейцарский» сыр, верещагинских знаменитых сыроварен, «одна ноздря».
В эмиграции Иван Шмелев вспоминал: «Вот, о Рождестве мы заговорили… А не видавшие прежней России и понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось куполом-исполином в ночи морозной – Храм Христа Спасителя.Рождество-то Христово – его праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в её пределах ни одного из врагов её. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его… – разве о нём расскажешь! Где теперь это знамение русской народной силы?!. Ну, почереду, будет и о нем словечко. Рождество в Москве чувствовалось задолго, – весёлой, деловой сутолокой. Только заговелись в Филипповки, 14 ноября, к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут, – «гусиные поезда», в Германию: раньше было, до ледников-вагонов, живым грузом. Не поверите, – сотни поездов! Шёл гусь через Москву, – с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары… Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни: оттуда пути другие. И утка, и кура, и индюшка, и тетёрка… глухарь и рябчик, бекон-грудинка, и… – чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло, «царское», с привкусом на-чуть-чуть грецкого ореха, – знатоки это очень понимают, – не хуже прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий и сладковатый, жирный, остро-душистый «русско-швейцарский» сыр, верещагинских знаменитых сыроварен, «одна ноздря».
* * *
Русское Рождество: до советской власти.
В Российской Империи Рождество праздновали 25 декабря. Дни от Рождества до Крещения тоже имели особое значение — этот период назывался Святками и его в той или иной форме отмечали все славянские народы Европы. В деревнях Святки сохранились до самой революции — по сути это был отголосок более древних языческих ритуалов, которые под влиянием христианства перемешались с церковными. Существовали традиционные святочные развлечения — колядование, гадание (особенно у девушек), процессии со звездой и медведем и еще множество других мелких ритуалов, вполне языческих по духу.
Разумеется, формально церковь все это не приветствовала и даже осуждала, но на деле забавные народные обычаи никому не мешали и сохранились в неизменном виде до самой революции. Сейчас они забыты, в основном из-за повсеместной урбанизации. Ряженые колядовщики встречаются до сих пор, но это обычно не продолжение живой традиции, а искусственная попытка её возродить.
В сёлах и в городах Рождество праздновали по-разному. В аристократических и буржуазных кругах были популярны рождественские балы и маскарады. Публика победнее развлекалась балаганами и вертепами, представлявшими сценки на рождественскую тему. Городских и деревенских жителей объединяли всенощные службы в церквях.

К Рождеству заканчивался самый строгий пост, и обычай накрывать богатый стол существовал очень давно. А вот рождественская елка — это уже весьма современный атрибут. Считается, что этот обычай появился в Германии и оттуда распространился по всему миру в XIX веке. В России ёлки появились при Александре I — первую ель установили в императорском дворце для будущей императрицы Александры Федоровны, совсем недавно приехавшей в Россию. После того как её супруг Николай Павлович взошёл на престол, ёлки в Зимнем дворце для детей царской семьи и великих князей превратились в традицию.
Тогдашние рождественские ёлки отличались от современных: их не украшали специальными игрушками, но могли развешивать на ветвях подарки или съедобные мелочи вроде яблок, печенья или пряников, которые детям разрешалось съесть после наступления Рождества. Подарки поначалу дарили открыто, а не от имени Деда Мороза (которого ещё не существовало) или Святого Николая (этот обычай появился ближе к концу века).
На исходе царствования Николая I рождественская ёлка стала общепринятым атрибутом городского Рождества — и у дворян, и у купцов, и у мещан. Ёлками торговали крестьяне, специально привозившие их на ёлочные базары. Поначалу ёлка была второстепенной декорацией, но позже её размер стал важен: чем больше ель, тем солиднее хозяин дома.
В 50-х годах рождественские ёлки стали устраивать в дворянских и купеческих собраниях, офицерских клубах и прочих общественных местах. Праздник постепенно превращался из семейного в общий: горожане с детьми стали ходить друг к другу в гости во второй день Рождества. Зажиточные семьи обычно старались произвести впечатление на друзей — это было своего рода соревнование на самую большую, пушистую и богато украшенную ёлку.
При Александре III появилась новая традиция — император вместе с семьей приходил на ёлку поздравить чинов своего Конвоя и Дворцовой полиции и подарить им что-нибудь. Причем императорская семья приезжала как 25, так и 26 числа, чтобы застать тех, кто 25 декабря стоял в карауле.

Всего за два-три десятилетия рождественская ёлка превратилась в традицию. Ёлки устанавливали в многочисленных общественных заведениях, в частных домах, в гимназиях. Священники устраивали ёлки для своих прихожан (иногда у себя дома). В городах организовывали благотворительные балы и ёлки — выручку от продажи билетов передавали в приюты, больницы и даже тюрьмы.
Постепенно сложился ритуал: праздник встречать в кругу семьи, а после ходить в гости. Как правило, весь второй день проходил в разъездах — нужно было лично поздравить всех друзей и знакомых. В 90-е годы XIX века задачу сильно облегчило появление рождественских открыток. Обычно на них изображали празднующие Рождество семьи или детей на фоне ёлок и зимних пейзажей, встречались и народные святочные мотивы. Открытку важно было подписать как можно более красивым почерком.
В русской литературе сложился особый жанр святочных рассказов. Появились они под влиянием западных, но существенно отличались от них социальным пафосом, характерными для русской литературы. Иностранные рождественские истории обязательно заканчивались благополучно (часто вопреки логике), а русские часто завершались печально. Святочные рассказы с удовольствием писали мастера русской литературы — Достоевский, Чехов, Лесков, Куприн и многие другие.

Наряжать рождественскую ёлку начали в Петербурге. Вскоре мода на игрушки распространилась в Москве и в губернских городах. К началу ХХ века наряженная ёлка стала неотъемлемой частью городской жизни, и даже в селах постепенно стала вытеснять традиционные святки, во всяком случае, в дворянских поместьях.
Русский писатель Иван Шмелев в эмиграции вспоминал о рождественских традициях своего детства:
«Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, — тычинки. У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: „Эй, сла-дкий сбитень! калачики горя-чи!..“
Темнеет рано. Кондитерские горят огнями, медью и красным лаком зеркально-сверкающих простенков. Окна завалены доверху: атласные голубые бонбоньерки, — в мелко воздушных буфчиках, с золотыми застежками, — с деликатнейшим шоколадом от Эйнема, от Абрикосова, от Сиу… пуншевая, Бормана, карамель-бочонки, россыпи монпансье Ландрина, шашечки-сливки Флея, ромовые буше от Фельца, пирожные от Трамбле… Барышни-продавщицы замотались: заказы и заказы, на суп-англез, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры…

И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, — другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки, в лесу как будто… А завтра!..<…> Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить… Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки.<…> Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху. Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают».
Полностью:Спутник и Погром
* * *
Пётр Николаевич КРАСНОВ.
РОЖДЕСТВО В СТАРОМ ПЕТЕРБУРГЕ.
(фрагмент из романа "Ненависть")
"…Только начинало светать. В синих туманах тонули дали Ивановской улицы. Было холодно. За ночь снег нападал и подбелил разъезженные улицы с пожелтевшими колеями. Дворники дружно скребли железными скребками панели. Пухлые грядки снега ложились поперек скользких обледенелых плит. Кое-где уже было посыпано хрустящим под ногами
желтым речным песком. На широкой и пустынной в этом месте Николаевской подувал ледяной ветерок с Семёновского плаца. Мороз крепко кусал за уши и за нос. Жёлтые и скучные по улицам еще горели фонари и говорили о прошедшей длинной ночи. Уже издали увидал Гурочка в белых волнах морозного тумана парящих на холоду мелких крестьянских лошадок, низкие деревенские розвальни и елки. Он ускорил шаги.
У Косого рынка, с колоннами высокой галереи, с широкими отверстиями подвалов внизу, мужики выгружали елки. Пахнуло душистым лесным запахом моха и хвои. Сладостно защемило сердце Гурочки.
В утреннем морозном воздухе редкие голоса звучали глухо. Низко опустив голову, тяжело и надрывно кашляла лошадь. Вдоль панелей настоящий лес вырастал. Ёлки – большие, в два человеческих роста – «вот такую бы нам!..», и маленькие, еле от земли видные, в пять коротеньких веток, становились аллеями. Мохнатые лапы ветвей были задраны кверху и подвязаны мочалой. Целые горы ёлок без крестовин были навалены одна на другую. Лавочные молодцы в полушубках и белых холщовых передниках, в меховых шапках похаживали подле, похлопывали руками в кожаных однопалых, жёлтых рукавицах.
У лестниц, ведущих в подвалы, стоймя стояли мороженые громадные осетры и белуги, в бочках в снегу, как в бриллиантовой россыпи, лежали судаки, стояли корзины с корюшкой и со снетками и вкусно пахло мороженой рыбой. Рядом висели скотские туши, дыбились колоды
свиней, и в берестяных лукошках грудами были навалены битые рябчики и тетёрки. Гурочка потоптался по ёлочным аллеям, увидал гимназиста болгарина Рудагова, своего одноклассника, и пошёл с ним в гимназию.
Праздничное настроение его не покидало.
* * *
В гимназии по коридорам и классам горели керосиновые лампы. Первый урок тянулся томительно, долго. Старый латинист-чех вызывал по очереди, и шёл перевод Саллюстия с разбором всех грамматических тонкостей латинского языка. Батюшку, конечно, «заговорили». Он и сам охотно пошёл на это, поддаваясь общему предрождественскому настроению. Лампы были погашены. В окна лился холодный, матовый свет хмурого зимнего дня. В классе было свежо. Батюшка, высокий и худощавый, в чёрной с проседью, красивой бороде ходил то около досок, то в проходах между парт и рассказывал о разных Рождественских
обычаях в России и заграницей.
– Вот у нас, в Петербурге, этого нет, чтобы со звездою по домам ходить… У нас только ёлки – это более немецкий обычай… А на юге у нас, и вообще по деревням собираются мальчики, устраивают этакую пёструю звезду с фонарём внутри, светящую на палке, и ходят по
домам. Поют тропарь праздника и разные такие рождественские песни «колядки»… Хозяева наделяют ребят чем, кто может. Кто сластей даст, кто колбасы, кто хлеба, кто гусятины, вот и у самых бедных становится сытный праздник Христов. Так ведь это же праздник бедняков!..
Праздник милосердия и подарков… В Вифлеемском вертепе, просто сказать – в хлеву, – Пресвятая Дева Мария родила Отроча млада Превечного Бога. Ангелы воспели Ему хвалу, пастухи поклонились Ему и волхвы из далеких стран принесли Ему, Младенцу Христу, драгоценные дары.
Отец Ксенофонт окинул класс грустными глазами и сказал:
– Ну, вот ты, премудрый Майданов… Чему ты улыбаешься, невер?.. Дарвина понюхал – всезнающим философом себя возомнил? Ты, брат, не стесняйся, встань! Когда я тебе говорю. Ноги у тебя от этого не отвалятся. И руку из кармана вынь. Перед духовным отцом стоишь. Ты что, брат, думаешь?.. Сказки рассказывает старый поп?
– Я, батюшка, ничего… Только мало ли легенд?..
– Эх, ты стоеросовая дубина!.. Легенда!.. Сказки, скажи!.. Но, почему же на протяжении девятнадцати веков люди живут этой легендой, этой сказкой?.. Благоуханно вечна она… Вот давно ли народился твой, Майданов, Дарвин, а уже протух, провонял, и серьёзные учёные отказались от него… И вернулись к тому, что без Бога и самого мира не могло бы быть. Единым Божиим промыслом создана вся мудрая механика вселенной… Ты знаешь ли, всеучёный Майданов, что в католической Германии и Франции в этот день в костёлах устанавливают вертепы? И сколько подчас тонкого искусства, глубокой мысли вложено в эти маленькие раскрашенные фигурки из дерева, из гипса, или папье-маше. В вертепе сделаны ясли, солома висит из решётки, стоят волы, осёл, овцы. Тут же сидит святой Иосиф и Дева Мария. В яслях младенец Христос… А дальше изображена пустыня, волхвы на верблюдах и звезда в небе… Прямо картина… В этот день в костел идут поселяне-французы, немцы ремесленники, ведут детей, преклоняют колени перед вертепом и смотрят, и молятся, и сколько тихой радости вливается незаметно в их души… Что же, премудрый Майданов, они все глупее тебя, гимназиста верзилы?.. Ты вот дорос до того, что считаешь, что стыдно молиться Богу и верить в Него. Погоди!.. Дорастёшь и того часа, когда вспомнишь о Нём и прибежишь под Его защиту. Только не поздно ли будет? Ну, садись, и помни – сказал Христос: «Будьте такими, как дети. Их есть Царство Небесное…».
Резкий звонок внизу, у лестницы, возвестил большую перемену. Батюшка поклонился и, шурша пахнущей ладаном и розовым маслом рясой, вышел из класса…".
Париж, 1934 г.

