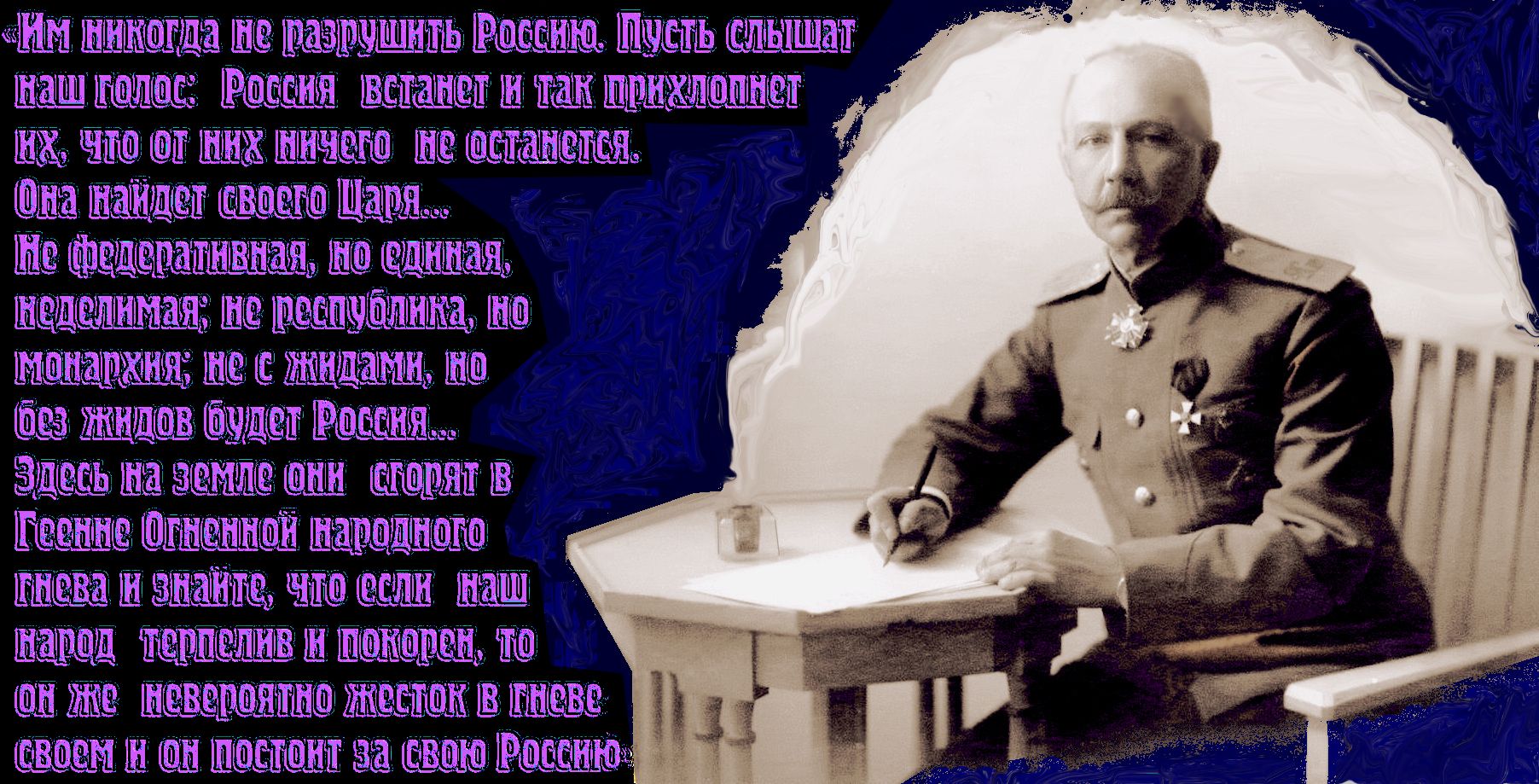Людмила Скатова. ПЕВЕЦ РУССКОЙ РЕКОНКИСТЫ – с нового листа! «А У НАС, НА ДОНУ…»

Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв свободы он…
Дон своих детей сзывает
В круг державный, войсковой.
Атамана выбирает
Всенародною душой…
Слова этого Донского гимна были одобрены в сентябре 1918 года Большим Войсковым кругом. Именно в бытность на Дону Атамана П.Н.Краснова у Всевеликого Войска появился свой флаг, свой герб, свой гимн, в основу которого была положена известная песня. Тогда же на Дону были восстановлены законы Российской Империи, а законы Временного правительства и декреты Совета народных комиссаров отменены. Когда стало достоверно известно, что Император Николай Александрович был замучен вместе с Семьей, в донских храмах после окончания литургии по Царственным Романовым начали служить панихиды…
К своим прежним традициям возвращалась и дорогая сердцу Петра Николаевича армия. Конечно, не все выходило так бравурно, как в Донском гимне: казачество успело достаточно вкусить запретного плода от разлагающей дух революционной пропаганды, сомневалось и думало тяжелую думу о будущем Донского края. Когда же справилось с сомнениями, вместе с Доном «всколыхнулось, взволновалось», то избрало себе и нового атамана. Это произошло 4/17 мая 1918 года в Новочеркасске. Круг спасения Дона наделил авторитетного в казачьей среде генерала Краснова, еще недавно скрывавшегося от большевиков в станице Константиновской, поистине диктаторскими полномочиями.
«Ясновельможный Пан Гетман, Друг и Брат мой Павел Петрович! – писал в письме бывшему Кавалергарду Скоропадскому генерал Краснов в тот же исторический день, 4/17 мая. – Тяжелые обстоятельства внутренней разрухи в родном мне Войске Донском заставили меня согласиться взять на себя крест управления Войском и принять предложенное мне место Войскового Атамана при условии дарования неограниченной власти. <…> Я преследую те же цели, что и Вы. Мои помыслы и вся моя работа направлены к тому, чтобы создать единую неделимую Россию. Временно, ввиду упорства большевицкой власти народных комиссаров, приходится примириться на создании Южно-Русской федерации, тесно связанной торговлею и промышленностью с Германией…»
И, тем не менее, энергично взявшемуся за восстановление прежней жизни на Дону Краснову, нет-нет, да и виделась в переходах Атаманского дворца тень прежнего Атамана, не выдержавшего погибельной для России «говорильни». Застрелившийся и тайно погребенный герой Великий войны, Алексей Максимович Каледин отождествлял для Краснова все самое лучшее, нравственно здоровое, что могло быть сосредоточено на Дону в ту пору, вместе с «Вечной памятью», что служили в храмах Новочеркасска по чисто донским героям и предводителям, Атаману Платову и генералу Бакланову. К сожалению, на Дон Краснов сумел прибыть только на другой день после похорон Каледина.
«На Дону положение дел было другое, — вспоминал в «Записках белого партизана» кубанец генерал-лейтенант А.Г.Шкуро. – Тогдашний донской атаман генерал Краснов поставил себя в совершенно независимое относительно главного командования положение. Бывший Атаманец, убежденный монархист, германофил по необходимости, Краснов был человеком широкого и разностороннего образования, громадной трудоспособности и железной воли. Он вел Дон твердою рукой. Организовав многочисленную, прекрасно вооруженную и стойкую Донскую армию, Краснов освободил от большевиков всю территорию Дона, а также часть Богучарского уезда Воронежской губернии…»
26 августа 1918 года Петр Николаевич был произведен Большим Войсковым Кругом в чин генерала от кавалерии. «За выдающиеся заслуги перед Родным краем». И это производство уже в эмиграции утвердил Великий князь Николай Николаевич-младший.
Да, Краснову, действительно, многое удалось на Дону, несмотря на чинимые его Белому Делу преграды. Интеллигенция, которую он, мягко говоря, едва переносил за космополитизм и приверженность различного рода политическим партиям и интригам (чего стоил только один конфликт с бывшим председателем Государственной Думы, «февралистом» М.В.Родзянко, которого пришлось выслать за пределы Войска!), обвиняла генерала в свертывании демократии. Добровольцы во главе с генералом Деникиным, предполагавшим играть ключевую роль в борьбе за «Великую, Единую и Неделимую» Россию, не только откровенно упрекали Краснова в «немецкой ориентации», но были недовольны и его вполне обозначившей границы самостийностью.
Но занявшие Украину, Ростов и Таганрог немцы, так или иначе рвущиеся к кавказской нефти, безусловно, вызывали настороженное отношение и у Донского атамана, лишь ради блага Донской земли предпочитавшего вступать с ними во взаимовыгодные контакты. Так, в обмен на поступающее с Дона продовольствие союзники поневоле присылали станичникам остававшееся на русских военных складах на Украине вооружение, которым, в свою очередь, Краснов делился с Добровольческой Армией. Разумеется, эту помощь приходилось скрывать от ревнивых германских глаз, как и тот факт, что донские казаки принимали активное участие в боях добровольцев за южные районы Донской области.
О тесном сотрудничестве Войска и Добровольческой Армии свидетельствует и секретное обращение к Атаману Краснову начальника Военного и Морского Отдела Добровольческой Армии генерал-лейтенанта А.С.Лукомского от 19 октября (1 ноября) 1918 года.
«Ввиду острой нужды в предметах артиллерийского снабжения, — пишет он Атаману Краснову, — обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшею просьбой, не признаете ли возможным уделить Добровольческой армии часть <…> запасов или оказать Ваше содействие к получению армией от Украины под видом снабжения Дона следующих предметов артиллерийского довольствия: 1) 100 пулеметов «Льюиса» и 5 миллионов патронов к ним, 2) 10 тысяч ручных гранат, 3) 5 миллионов ружейных патронов россыпью, 4)75 тысяч 3-х дюймовых пушечных патронов, из них 25 тысяч шрапнелей и 50 тысяч гранат, по возможности французских…»
Не следует забывать, что и пополнявшие ряды добровольцев офицеры и юнкера попадали из России на Дон, к своим вербовочным пунктам, через германские кордоны. При этом, согласно донесению атамана Зимовой станицы Войска Донского генерал-майора герцога Н.Н.Лейхтенбергского, осторожное немецкое командование, заключившее Брестский мир с большевиками, в приватных беседах настаивало, на том, чтобы жаждущие борьбы с большевиками «добровольцы» посылались непосредственно к Краснову, «а не прямо в Добровольческую армию».
Когда добровольцы ушли на Кубань, Атаман продолжил готовить «свой большой ответ» большевикам, заключавшийся, конечно же, в полном их свержении не только в границах Всевеликого Войска Донского, но и по всей России. Выступая в сентябре 1918 года на Большом Войском Круге в Атаманском дворце, Краснов, куда больший реалист, чем многие его оппоненты, пророчествовал: «… не спасут Россию ни немцы, ни англичане, ни японцы, ни американцы – они только разорят ее и зальют кровью. <…> Спасут Россию ее казаки! <…> И тогда снова, как встарь, широко развернется над дворцом нашего Атамана бело-сине-красный русский флаг – единой и неделимой России. И тогда кончен будет страшный крестный путь казачества…»
Как же это было далеко, почти несбыточно! Но слова эти, разумеется, запомнят союзники Добровольцев – англичане и французы, чтобы припомнить в 1945-м! И Атаману, и его казакам.
В «германской» ориентации Краснова времен Гражданской войны, которую диктовало стремление Германии, в отличие от англичан и французов, сохранить целостность России, а не расчленить ее, союзники увидели неразрывную связь с другими событиями и сделали Атамана их заложником, обменной картой в их большой игре с «Советами», чьи войска в 1945-м заняла пол-Европы.
В своей большой игре против Атамана выступит и генерал Деникин, чтобы, в конечном счете, лишить его полномочий. При этом лишится сильного союзника, готового бороться с большевиками единым фронтом и использующего все противоборствующие им силы.
… Но сколько талантов – ораторских, писательских и полководческих, сколько доводов, опиравшихся на знание истории Донской земли, потратил потомственный казак из Петербурга, чтобы вызвать к жизни донской патриотизм!.. Кроме того, нужно было налаживать экономику, заниматься земельным и финансовым вопросами, оживить торговлю, восстановить работу железнодорожного и речного транспорта.
С большим интересом подходил Петр Николаевич к идее разработки проектов Волго-Донского и Донецко-Днепровского каналов. За девять месяцев атаманского правления в сфере образования было открыто восемь гимназий, начальные школы. В программу преподавания Новочеркасского военного училища Атаман Краснов ввел курс военной психологии и сам читал ее юнкерам. Это нововведение, по мнению профессора Н.Н.Головина, представляло собой факт громаднейшего значения в истории Русской Военной Школы.
Краснов создавал армию – молодую, не имевшую военного опыта, но и не страдавшую от опыта «окопной правды», навязанной старым казакам полковыми комитетами и заразившей их «ядом большевизма». Продолжал Краснов вести и свою маневренную войну в политике, постоянно меняя тактику: то грозил «любезным сердцу германцам» новыми контактами с добровольцами, то составлял секретное и дружественное письмо Кайзеру Вильгельму II. Письмо, которое большевицкие историки, да и не только они, не раз ставили в упрек Донскому Атаману, между прочим, было коллегиально обсуждено и отредактировано на Совете управляющих отделами Войска Донского 2/15 июля 1918 года.
«Два месяца борьбы доблестных казаков, которую они ведут за свободу своей родины с таким мужеством, с каким в недавнее время вели борьбу против англичан родственные Германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства победой, и ныне Земля Всевеликого Войска Донского на девять десятых освобождена от диких красногвардейских банд».
Так писал Кайзеру Вильгельму глава самостоятельного государства, отложившегося от попавшей под большевицкое ярмо России, Атаман Краснов, предупреждая Его Императорское и Королевское Величество о вступлении Войска в союз с Астраханским и Кубанским казачьими войсками. Ибо, «молодому государственному организму… трудно существовать одному».
Также просил «ярлык», то есть признания за его Войском права на самостоятельное существование, и, по мере освобождения территорий соседних с ним Кубанского, Астраханского и Терского войск – признания и права на самостоятельное существование всего Доно-Кавказского Союза.
Но главным в этом письме было прошение о признании в прежних географических и этнографических размерах Войска Донского, помощь в разрешении спора между Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска, которым оно владело более 500 лет. Территориальных притязаний по стратегическим соображениям, в общем, было немало. Это и присоединение к Войску городов Камышина, Царицына и Воронежа, а также станций Лиски и Поворино. И даже дерзкое требование к германскому Кайзеру оказать давление на советские власти, чтобы они очистили пределы Войска Донского от своего присутствия.
Но каким бы красноречием и историческими реверансами в отношении прошлой русско-германской борьбы на полях Европы не разбрасывался составитель письма, какие бы смелые и далеко идущие планы для своей малой родины не строил, его послание успеха не имело. Уж слишком много взаимоисключающих политических узлов было завязано в тот период. И с Украиной, и с теми же германцами, державшимися более чем неопределенно. И с интеллигенцией в лице, к примеру, все того же М.В.Родзянко, из-за действий которого секретное письмо к Кайзеру стало достоянием «общественности», вызвало политический скандал и было использовано против Атамана Краснова.
Таким образом, миссия Зимовой станицы (казачьего Министерства иностранных дел) во главе с Н.Н. Лейхтенбергским потерпела крах. К немецкому Императору посланник Краснова допущен не был, и предложения Атамана так и не дошли до Августейшего адресата. Его Высочеству Николаю Николаевичу, герцогу Лейхтенбергскому оставалось одно: подать прошение об отставке.
9/22 августа 1918 года своим рапортом он доносил Атаману мнение немецкой стороны в отношении интересующей Дон повестки: «… ввиду достигнутого на основании Брестского договора соглашения с советским правительством, Германия не может признать самостоятельности Дона, не оговоренной в договоре, иначе как после признания ее Советской Россией…» Также стало понятно, что и официальной поддержки Дону оружием Германия более оказывать не сможет.
Как ни тяжело признать, но весь парадокс Белой борьбы на Юге России заключался в ее изначальной обреченности, в отсутствии благословения на победу свыше. Правда, добровольцы об этом не знали и упрямо верили в счастливый исход правого дела. Да и кто бы посмел сказать нечто такое героическим Дроздовцам или Марковцам, юным донским партизанам полковника Чернецова, воспитанникам кадетских корпусов, порубленным червонными казаками в серебряной степи?! Кто посмел бы сказать об этом глубоко верящему в правоту русского дела генералу Краснову, считавшему и вполне закономерно, что «тем и страшна гражданская война, что на ее почве родится не уважение к противнику, как в настоящей войне, а ненависть и презрение. Не рыцарство, а тупая жажда убийства. Не доблесть и честность, а жажда наживы…»
Обреченность Белой борьбы обусловливалась даже не тем, что ее умные, образованные и опытные в военном искусстве вожди не могли столковаться и избрать единого водителя (а единым и объединяющим началом мог быть только Царь!), перед которым склонили бы они смиренно свои головы; трагическая обреченность была заложена участием в Белом движении тайных сил – членов масонских лож, соединенных братской клятвой и вредивших русскому национальному сопротивлению. Эти силы воздействовали на правительство генерала Деникина, почти сплошь состоявшее из «вольных каменщиков», а позже мешали в Крыму мужественной работе генерала Врангеля. Они же, почитая развенчанные профессором Иваном Александровичем Ильиным «Заветы февраля», пошли ва-банк, когда Атаман Краснов издал на Дону приказ служить панихиду по убиенному Царю-Мученику и стал поощрять статьи в местной газете «Донской край», направленные на защиту монархического строя в России.
Вот как передают атмосферу создавшихся противоречивых настроений в войсках, литературные герои Краснова, оба – деникинцы, в романе «Понять – простить». Контрразведчик, с университетским значком, явно сомневаясь, спрашивает у потомственного офицера Светика (Святослава) Кускова: «Разве возможна теперь где-нибудь монархия?..» На что молодой человек говорит твердо: «<…> — пока вы не напишите на своем знамени это великое, святое слово, у вас не будет победы.
— Ну что вы, Кусков! С Деникиным только потому и идут, что он без царя идет. Англичане и французы ни за что помогать не станут, если он выкинет на знамени монархические лозунги. А теперь вся общественность с ним».
В том, что не могли иметь удачу те, кто шел против Государя в прошлом, и те, кто вступил в ряды контрреволюционеров в настоящем, а сам славословил ее идеи, генерал Краснов был глубоко убежден, и этим характерным убеждением пронизано все его литературное и эпистолярное наследие. Оно стало частью его Реконкисты в защиту Русской идеи, под знамена которой он собирал честных русских людей, не забывших Бога и преданных монархическим идеалам. Но были и другие…
Созданный в Париже Политический центр российского масонства в лице того же Временного комитета, пишет современный исследователь О.А.Платонов в книге «Тайная история масонства», координировал подпольную «работу» масонов, стремясь придать Белому движению республиканско-космополитический характер, сделав из него послушное орудие Антанты, а, по сути дела, масонских кругов Англии и Франции.
В то же время, разбирая причины поражения Белого движения на Юге, Северо-западе, в Сибири, автор глубокого труда «Вождю III Рима» М.В.Назаров справедливо замечает: «Лишь в 1922 году во Владивостоке был последний верный всплеск Белого движения в виде Приамурского Земского Собора при участии Церкви – то есть с симфоническими взаимоотношениями политической и духовной властей. Это была единственная в Белом движении попытка восстановить дофевральскую государственную легитимность. Собор осознал главной причиной смуты утрату удерживающей монархической государственности и провозгласил единственным выходом из кризиса ее восстановление в лице династии Романовых; он признал ее царствующей, восстановив в подконтрольном генералу Дитерихсу крае дореволюционные Основные законы. <…> Но физических сил для сопротивления в 1922 году уже не оставалось…»
В то, что восстановление монархии на территории Русской земли, освобожденной от большевизма, возможно, свято верил и Петр Николаевич Краснов. И, надо полагать, что с учетом принятых Приамурским Земским Собором документов, написаны в эмиграции такие его романы, как «Белая Свитка», «За чертополохом», «Подвиг». А неоднократные встречи и переписка с представителями Дома Романовых и поступление в распоряжение самого старшего из Великих Князей – Николая Николаевича-младшего, говорят лишь о той большой и поступательной работе, что проводил Петр Николаевич.
Перебравшись во Францию, Краснов постоянно осведомлял Великого князя о том, что происходит в России и в казачьих станицах Зарубежной Руси. Ни почтенный возраст, ни телесные немощи, только прибавлявшиеся с годами, ничто не мешало ему оставаться в рядах воителей за Русскую – Божию Правду.
Да, нет никаких сомнений в том, что Петр Николаевич, был хорошо знаком с такими произведениями, как «Тайная сила масонства» А.Селянинова, «Ночные братья» графини С.Толль, «Близ есть, при дверех» С.Нилуса. Не чужды ему, а близки по духу были и пророческие размышления Ф.Достоевского. Чтение же Евангелий соединяло душу со Словом Божиим, и не прерывало незримой связи Времен. Чтение позволяло трезво оценивать нависшие над христианской цивилизацией угрозы, которые тот же Сергей Нилус, публикатор «Протоколов собраний сионских мудрецов», предварил недвусмысленной строкой: «О том, чему не желают верить, и что так близко»…
По всей видимости, серьезно относился П.Н.Краснов и к Каббале, учению, зародившемуся в древней Халдее, и к Талмуду, в котором целые трактаты были посвящены крови и убою скота. Разумеется, не кровь животных волновала православного христианина Краснова…
Каббалой и Талмудом интересовались многие русские религиозные мыслители и исследователи – Василий Розанов, отец Сергий Булгаков, Владимир Даль… А Лев Тихомиров в фундаментальном труде «Религиозно-философские основы истории» подчеркивал, что Каббала родилась окутанной в магию и чародейство, она же остается, в смысле искусства, достоянием лишь посвященных. Цитируя Н.Переферковича, автора предисловия к книге Папюса «Каббала, или наука о Боге, Вселенной и Человеке», Тихомиров соглашается с тем, что, за немногим исключением, современные евреи знакомятся с Каббалой не по древним источникам, а по сочинениям, написанным на европейских языках. «Где-нибудь, в глухих местечках Польши и Галиции, вдали от центров цивилизации, находятся еще среди стариков любители Каббалы, но их Каббала – не та умозрительная философская Каббала <…>, а нестройный ряд мистических и суеверных представлений…». Но так ли они нестройны и суеверны?.. И не «в глухие ли местечки Польши», одним из которых был городок Замостье, был направлен в 1913 году к месту службы командир казачьего полка полковник Краснов?..
Там, в Замостье, наблюдал он нравы и обычаи местечкового захолустья, о которых так осторожно, полунамеками говорят Тихомиров и Переферкович. Там встречался с представителями еврейского мира: портными, купцами, молочниками, мелкими ремесленниками. В том числе и с раввинами. По описанию Краснова, это были «косматые странные длиннобородые старики в длиннополых лапсердаках, неопрятные и подозрительные» («Ларго»), но, несомненно, духовно влиявшие на жизнь местечка.
Литература мистического характера, где ни в коей мере не было исключено воздействие на человека мира невидимых сущностей и одержимых ими адептов, все более проливала свет на цели и характер движущих сил двух переворотов 1917 года, на саму суть революции, однозначно, антирусской. Осмысление пережитых событий перекочевывали в пророческие книги П. Н.Краснова. В них, по сути, предсказана и судьба писателя-подвижника, прототипом которого в какой-то степени послужил уже упоминаемый нами генерал Егор Иванович Акантов из романа Краснова «Ложь», изданного в Германии.
«Совсем недавно было большое масонское собрание, были собраны братья разных лож, были допущены и «профаны». Один из руководителей Великой Ложи Франции читал доклад об угнетении духа.
Акантов слушал пламенную речь, произнесенную по всем правилам ораторского искусства. Оратор нарисовал яркую картину насилия духа, кровавых преступлений, совершенных после войны в Западной Европе. Маститый венерабль (председатель) вспомнил всех тех, кто был угнетен. Сытое лицо его лоснилось от возмущения, на круглый живот опускался белый кожаный овальный передник, и золотая звезда на нем, знак разума и знания, излучала свет <…>. Венерабль громил всех, кто восстал против демократии и коммунизма. Он называл людей порядка, закона и справедливости «жестокими ретроградами…»
На этом собрании был русский брат «профан»… Он послал венераблю записку с рядом вопросов. Он, как и должно было сделать русскому, спросил венерабля, почему тот, громя фашистов <…>, громя правительства, добивающиеся порядка и возможности для каждого человека труда, ни словом не обмолвился о том, что делается в России?.. Почему не упомянул о тысячах епископов, священников и монахов, замученных только за свободное исповедание своей веры в Бога, о миллионах солдат и офицеров, крестьян и рабочих, расстрелянных, умученных голодом и непосильными работами в концентрационных лагерях на Крайнем Севере?.. <…> В эти дни страшная сущность большевизма была раскрыта во всем его безобразии <…>
Венерабль прочитал записку и, сойдя с подиума, блистая масонским передником, со звездой на круглом животе, направился к русскому брату «профану».
— Et bien, мon ami (Итак, мой друг), — сказал венерабль, покровительственно кладя руку на плечо «профана».
Он всем своим видом показывал свое превосходство над «профаном». Его голос был важен и не допускал ни критики, ни возражения.
— В Вас говорит ваша ame slave, славянская душа, полная туманного мистицизма. Это все воображение, вера в преувеличенные слухи, никак и ничем не подтвержденные официально. Циркуль и треугольник масонского исследования должны раньше все это измерить и исследовать. <…> Мне и другие русские братья говорили об этом явлении… Но… Где же доказательства?..»
Роман «Ложь», отрывок из которого процитирован, был окончен Красновым в тот приснопамятный для русской эмиграции 1939 год, когда в Италии утвердился фашизм, в Германии правили национал-социалисты, в Испании завершалась борьба генерала-христианина Франко с красными интернациональными бригадами. Во Франции левому «Народному Фронту» противостояли комбатанты 1-й Мировой, объединенные под знаменами полковника де ла Рока в консервативную организацию «Огненные кресты».
И там же, во Франции, были похищены, а, значит, обезврежены для дальнейшего делания вожди Русского Обще-Воинского Союза, генералы А.П.Кутепов и Е.К.Миллер. Устранялись все, кто представлял угрозу, стоял на пути либерально-масонских и большевицких кругов. В воздухе Европы носился запах новой большой войны, и русские воины-эмигранты, в том числе казачество, сознавая, что не все еще потеряно в битве с лицемерными демократиями, готовились к схватке за национальную Россию.
Зарубежный съезд русской эмиграции, прошедший еще в апреле 1926 года в Париже, словно заглядывая в будущее, провозгласил: «СССР – не Россия и, вообще, не национальное государство, а русская территория, завоеванная антирусским Интернационалом». Среди более, чем 400 участников этого большого заграничного собрания, не пожелавшего выказать безоговорочного подчинения Великому Князю Николаю Николаевичу, и расколовшего русскую эмиграцию, был и принципиальный противник съезда генерал Краснов…
В приближающейся мировой схватке, которая станет для русской военной эмиграции «2-й Гражданской», ставка делалась не на Британию или США, а на Германию, благо, что среди немцев было немало бывших подданных Российской Империи, офицеров царского производства, не забывших годы службы в Государевой гвардии. Да и разве не русские эмигранты, к которым немцы отнеслись в 20-е годы с большим сочувствием, нежели другие народы, за исключением сербов, вызвали пробуждение и подъем немецкого национального сознания?..
Возможно, предвосхищая события, Краснов не случайно ввел в роман «Ложь», достоверно передающий предвоенный дух Германии и Франции, безымянного генерала-галлиполийца, который рассуждал примерно так: «Ничего так не хотел бы, как снова пережить это время Гражданской войны». А когда его собеседник возражал ему: мол, как же драться со своими, идти брат на брата? – то в ответ слышал не просто отповедь, а исповедь сердца: «Китайцы, накурившиеся опиумом, пьяные латыши, интернациональная рабочая сволочь, мне, честному русскому человеку, — не братья… <…> Они шли разрушать Россию, разорять русскую культуру, грабить население, насиловать женщин, надругаться над верой во Христа… Я все это защищал и отстаивал. И, если для этого нужно было убивать – надо было и убить… <…> — они были врагами моей родины…»
__________
… После того, как немцы, растревоженные собственной революцией, покинули пределы Украины, Атаман Краснов оказался фактически без союзников. Казачий дух к сопротивлению заметно угасал. Надежда на то, что Краснову удастся установить контакты с представителями Антанты, не оправдалась. В качестве вождя Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) практичные французы и вероломные англичане упорно видели русского генерала-демократа Антона Ивановича Деникина, но никак не русского генерала-монархиста Петра Николаевича Краснова, к тому же, еще и казака!
И если, по окончании Белой Вандеи, проследить дальнейший путь Деникина, генерала и писателя, можно убедиться: корректность, проявляемая союзниками к нему на протяжении всей его жизни, будет последовательной и безоговорочной. Автор «Очерков Российской смуты» скончается в Детройте, и во время похорон американские военные воздадут Антону Ивановичу все достойные его высокого чина почести. Воздадут и в постсоветской Москве в 2004 году, когда его прах доставят на кладбище Донского монастыря. Туда, где покоится и часть пережженного и «неопознанного» праха генерала Краснова. Случайность? Но кто и что может противостоять на земле Промыслу Божьему?.. Промысел Божий раскрывается не сразу, да и тем, кто готов его постичь и воспринять.
Для французов и англичан Петр Николаевич был «слишком» русским, «слишком» национально мыслящим, а, значит, и непредсказуемым. И, тем не менее, давая впоследствии характеристику его личности, предводитель союзнической Миссии генерал Пуль искренно назвал Краснова одним из способных белых генералов.
4 января 1919 года началось наступление Красной армии на Южном фронте: донцы были атакованы по всей его линии. Не заставила себя ждать и мощная психическая обработка казачества большевицкими агитаторами, в результате которой было оставлено поле боя… Снова возобновились переговоры: Краснов – Деникин. И снова союзники требовали подчинения Краснова… Изнуренные казачьи войска ожидали от Антанты поддержки в живой силе, но только геополитические интересы все еще удерживали англичан и французов на богатом российском Юге. Донская же армия продолжала разваливаться. За ее развалом неминуемо следовал и крах Добровольческой, то есть Вооруженных Сил Юга России, недоверие к которым у местного населения усугубляло присутствие в ее рядах иностранных советников и наблюдателей. Итак, намек на сердечность, или «сердечное согласие», был только в названии военного союза!
Именно тогда завязывались те таинственные, и лишь на первый взгляд случайные узлы, которые так трагически свяжут судьбу казачьего генерала Краснова с представителями западных демократий впоследствии. «Союзники» не забудут ему ни его монархических взглядов, ни его самостоятельной политики на Дону; не простят Краснову и его нежелание подчиниться власти французского Главнокомандующего генерала Франше Д‘Эспре (одно из условий помощи союзников в борьбе с большевиками). Припомнят Донскому Атаману и его дружественное письмо к германскому Кайзеру…
Все эти таинственные и лишь, на первый взгляд, случайно затянутые узлы будут распутаны в мае 1945 года в Восточном Тироле. А обмен адмирала Редера и других германских морских офицеров на казачьих вождей во главе с престарелым генералом П.Н.Красновым станет еще одной взаимовыгодной сделкой антихристианской «закулисы» и таких же безбожных советских правителей.
… Раздираемый массой политических противоречий, 2/15 февраля в Новочеркасске собрался Войсковой Круг, к которому оппоненты Краснова хорошо подготовились. На нем шумно потребовали отставки Командующего Донской армии генерал-майора С.В.Денисова и выразили недоверие Атаману Краснову. Петр Николаевич не стал спорить – его сердце пребывало в глубокой скорби от всего того, чему он стал свидетелем. Поэтому, казалось, подал в отставку без сожаления.
Можно себе только вообразить, чем был для петербургского казака, большого знатока и почитателя донских традиций, П.Н.Краснова, батюшка Тихий Дон, земля его предков, и как тяжело, должно быть, прощался он со всем, что подпадало под это древнее и глубинное понятие. Но свидетели его прощания отмечали внешнюю беспристрастность и спокойствие вышколенного гвардейца.
«Глубокоуважаемый Евгений Иванович, я сейчас отказался от должности донского атамана, и думаю, что моя отставка будет принята, — писал Краснов генерал-лейтенанту Е.И.Балабину в деловом письме от 2 февраля 1919-го. – У меня находятся две лошади Провальского завода, кобылы Горынь и Галька, из коих первую я выездил лично, и вторая выезжена под моим наблюдением. Я очень просил бы Вас передать этих лошадей, как казенно-офицерских: Горынь начальнику Новочеркасского военного училища и Гальку командиру сотни этого училища. Если это невозможно, то верните их на завод…»
Позже, проживая во Франции, генерал займется ежедневной выездкой другой лошади, которую и называть станет на французский лад – Lucette. Она же скрасит многие прогулки Петра Николаевича в живописных окрестностях деревушки Сантени, которые для него, русского кавалериста, были необходимы, как глоток свежего воздуха. Но это потом, а пока следовало привести в порядок донские дела…
Когда поезд с бывшим Атаманом Красновым и его супругой Лидией Федоровной прибыл в Ростов, на перроне его встречал почетный караул от Лейб-Гвардии Казачьего полка. В тот день шел снег…
— Я уже больше не атаман вам, — сказал Петр Николаевич встретившим его казакам, — не имею права на почетный караул. Я смотрю на ваш приход сюда со святым штандартом, как на высокую честь и внимание. Вы мне дороги, ибо я связан с вами долгими узами, и узами кровными…
Потом он, коленопреклоненный, целовал полковое знамя. Скорее всего, понимая, что на Дону ему больше не бывать. И, в то же время, 50-летний генерал предвидел, наверное, предвидел, что Небесный Дон, его Дон, еще впереди. Неожиданно ярко вспыхнули перед глазами картины уходящей «Родины… дома… того, что было. Исаакиевский собор и торжественные службы в нем. Зимний холод и сумрак огромного храма, мягкий аромат ладана и воска, малахит и ляпис-глазурь золотого иконостаса, металл, отражающий огоньки свечек, и <…> совершенное пение митрополичьего хора. Истовое православное богослужение».
Внешне спокойный и бесстрастный, он уже вкладывал в уста своего литературного героя – ведь они, его персонажи, как тени, шли по пятам! – слова, полные душевной муки: «Боже мой, что мы потеряли! Как могли мы все это так легко оставить и сдать? <…> Как смели мы не победить и остаться живыми?..»
Похоже, этот возглас генерала, его плач по всему русскому слышится до сих пор. Плач казака, прощавшегося с Доном, а заодно и с Санкт-Петербургом, но осенявшего широким крестным знамением всю Россию…
Генерал прощался с Доном, но его Дон уходил за ним следом. Он также становился беженцем. Он настигал его и потом, в Берлинской филармонии, везде, где приходилось слушать знаменитый на весь мир и скитавшийся по всему миру мужской Хор Донских казаков под управлением Сергея Жарова. В его репертуаре были русские народные, солдатские, казачьи песни, национальные гимны разных стран (хор продолжал исполнять во время концертов русский национальный гимн «Боже, Царя храни…»). Пел и духовные произведения Гречанинова, Кастальского, Чеснокова, являвшиеся частью православного богослужения. И это согревало сердце генерала-беженца.
О том, что Краснов хорошо знал последование Божественной литургии, свидетельствует все им написанное. Так, в романе «Опавшие листья» петербургский гимназист Федя Кусков, воспитанный богобоязненной матерью, познавшей и блеск придворного мира, и бедность разоряющегося «дворянского гнезда», любит бывать в гимназической церкви, читать псалмы на клиросе и помогать священноначалию во время службы. Эта трепетная любовь к Богу, ко всему, на чем лежит Его ясная благодатная печать, крепла в мальчике и тогда, когда он стал воспитанником Александровского кадетского корпуса; она пламенела в его душе, подобно лампаде, в те тихие и радостные часы, когда Федя, будучи юнкером, сопровождал свою маму в храм; она не угасала и тогда, когда безжалостно подступало житейское море и требовало совестливого поступка. Когда предстояло сделать выбор между любимым Государем Александром III и любимым старшим братом, связавшим жизнь с революционерами… Как помочь ему, заблудшему, и при этом не запятнать юнкерского мундира?..
Именно благодаря укрепляющейся в душе вере прозрел однажды Федя Кусков (читай – Петр Краснов!), испытав высокий душевный подъем при виде русских войск, идущих стройными «коробками» на парад, и гордо воскликнул: «Да ведь и я русский!..» И сколько чувств встрепенулось в нем, словно рядом с мальчиком встали воедино все святые воители, все воины Христовы, живот свой «за други своя» положившие, за Святую Русь молящиеся вместе с живыми, благословляющие на ратные подвиги и его, чьей Дамой сердца была Россия. Как и у Петра Николаевича.
… И вот печальной и больше не волнующей воображение незнакомкой, снявшей траурные перья, эта, или какая другая Дама (а, может, двойник той, прекрасной и величавой) проходит медленно меж тесно сдвинутых кресел берлинской филармонии. Присаживается в одно из них и разворачивает программку вечера, читая по-немецки, про себя: «Литургия верных», сочинение Александра Гречанинова, «Хвалите имя Господне…»… И видит рядом с собой стареющего генерала Акантова. Чинно раскланиваются, как старые знакомые. Впрочем, в концертном зале в этот вечер собралось немало русских: бывших петербуржцев, москвичей, ростовчан, нижегородцев… Пришли послушать казаков Жарова, предаться ностальгии. «Была великая Россия!..»
«Уже колебались, колыхались в воздухе осторожные, почтительные, воздушные, точно и, правда, в облаках кадильного дыма несущиеся, порхающие около Царских врат «Заповеди блаженства». Акантов видел, как медленно и торжественно идет «Малый вход». Огромное золотое Евангелие лежит на плечах рослого, красивого диакона. Акантов слышал и воспринимал всем сердцем слова: «Благословенны есте, егда поносят вам, и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради…»
«О, сколько, сколько поносили нас за эти жуткие послереволюционные годы, — думал Акантов, — сколько лгали про нас. <…>
Акантов не концерт слушал, а истаивал в горячей молитве, такой, какой в храме не испытывал. Он переживал свое старое, когда горячо верил, когда ходил в церковь, веруя, что в ней, во Христе, истина, когда не искал ее, как ищет теперь, разуверившись в Церкви».
К счастью, в отличие от своего героя, генерал Краснов был человеком неизменной и глубокой веры, обладал сильным мистическим сознанием, дававшим ему и сильные религиозные переживания. Вера позволила приблизиться и к более тонкому, духовному восприятию музыки, поэзии, истории, смысла национальной жизни, задушенной на родине.
Осиянный светом проповедничества, зарабатывая на хлеб писательским трудом, Петр Николаевич устами своих замечательных, русских героев, провозглашал: «Честь… Долг… Святость знамени… <…> неприкосновенность погон и мундира… Доброе имя полка… Честь семьи… пускай это фетиши… Пускай называют Дон-Кихотами тех, кто служит идее, кто начертал на своем знамени одно слово: «Россия», окутал его трехцветным флагом и стал умирать за него на Лемносе и в Галлиполи. Пускай те мученики, что теперь в лесных дебрях и на шоссейных дорогах, под дождем, во вьюгу <…> работают на непривычно тяжелой работе, пускай они – Дон-Кихоты!.. Но не станет этих Дон-Кихотов, и останется большевицкая чрезвычайка, кровь, трупы, насилие, да разврат разнуздавшейся эмигрантщины…»
Поистине, бессмертные, кровью написанные строки! И их диктовала генералу в изгнании его вера, его боль. Сама, порой казавшаяся беспросветной, жизнь. Об этом нашептывали ему, отъезжавшему в неизвестное, неизбывные волны Тихого Дона, возвещало на ветру трепетавшее знамя славного Лейб-Гвардии Казачьего полка, которым командовал еще дед Краснова. О том же – о славе и скорби, предательстве и гибели, задыхаясь на бегу, едва заглянув в окна генеральского вагона, выкрикивали последние станции Донской земли…
Как сообщает в «Биографии П.Н.Краснова» его верная сподвижница Лидия Федоровна, «генерал Деникин не позволил П.Н. остаться в Войске или на территории, занятой Добровольческой армией, и предложил П.Н. отправиться или в Крым, где были французы, или в Батум, где были англичане. П.Н. отправился в Батум…» И это было чудом Божиим: заразившись по очереди черной оспой, не имея ни медикаментов, ни врачебной помощи, генерал и его супруга избежали смерти… А, между тем, в Батуме, на земле пышно цветущего ботанического сада, была могила старшего брата Петра Николаевича – Андрея Николаевича Краснова, видного ученого-естествоиспытателя и путешественника.
Генерал Краснов, желая попасть в распоряжение Верховного Главнокомандующего Белых армий Адмирала А.В. Колчака, чтобы продолжить борьбу с большевизмом, писал письма и слал телеграммы в Сибирь, отправляя их через английский штаб. Увы, ни одна из депеш генерала своего адресата не достигла. Положение спас генерал-лейтенант Баратов, поспособствовавший тому, чтобы Краснов оказался в Северо-Западной армии генерала от инфантерии Н.Н.Юденича. Путь к месту новой службы оказался неблизким: Новороссийск – Таганрог – Константинополь – Марсель – Лондон – Гулль – Копенгаген – Або.
В Ревель Краснов прибыл в первых числах сентября 1919 года. Оттуда направился в Нарву, где находилась ставка Командующего. Какого-либо командного поста Петр Николаевич в этой армии не получил – все те же таинственные и не случайно завязанные «союзниками» и доморощенными интриганами узлы дали о себе знать в короткий срок. И генерал Краснов был зачислен в резерв чинов Северо-Западной Армии. Стал простым добровольцем. Его русская Реконкиста продолжалась.
Удача улыбнулась, когда в занятую белыми воинами Гатчину прибыл генерал Юденич и поручил Краснову совместно с проживавшим там на своей даче писателем А.И.Куприным создать фронтовую газету «Приневский край».
http://rys-strategia.ru/news/2025-04-09-20512